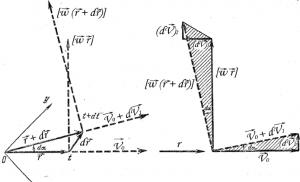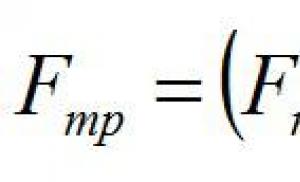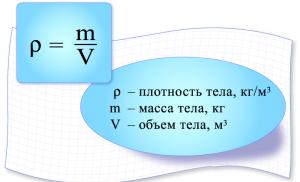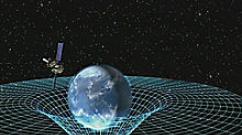Миланский эдикт, или роль императора константина великого в христианизации римской империи. Храм Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах Миланский эдикт императоров константина и лициния
26 июня исполнится 1700 лет обнародования решения императоров св. Константина и Лициния дать христианам свободу по всей Римской империи. Накануне этой даты и накануне дня рождения Церкви - Пятидесятницы - рассказываем о Милане, городе, в котором это историческое решение было принято, его святынях и жизни его православной общины в наши дни. Цикл статей открываем рассказом о том, как принимался Миланский эдикт. Статуя императора Константина перед базиликой Сан-Лоренцо, Милан
Главное в Миланском эдикте: язычество потеряло статус государственной религии
Самым существенным новшеством эдикта было не прекращение гонений на христиан, а признание всех религий Империи равными в правах. Лактанций в сочинении «О смерти гонителей» цитирует документ: «Мы даруем и христианам, и всем прочим возможность свободно следовать той религии, какую кто пожелает, с тем, чтобы божественность, какая б то ни была на небесном престоле, могла бы пребывать в благосклонности и милости к нам и всем тем, кто находится под нашей властью. Поэтому мы решили хорошо и самым взвешенным образом обдумать это мероприятие, поскольку сочли вообще никому ни отказывать в возможностях, обратил ли кто свой разум к христианскому обряду или же посвятил его той религии, какую он счел наиболее подходящей для себя, чтобы вышнее божество, чей культ мы соблюдаем душой и сердцем, могло бы оказывать нам обычные благосклонность и одобрение во всем».
О свободе веры договорились на свадьбе
Решение дать христианам свободу собраний по всей Римской империи, было принято на свадьбе Констанции, сводной сестры св. Константина, и его соправителя Лициния. Флавия Юлия Констанция была одной из шести детей императора Констанция Хлора и Феодоры, дочери (или падчерицы) императора Максимина. Ради женитьбы на Феодоре, важной для его политической карьеры, Констанцию пришлось оставить св. Елену. Свадьба проходила в Медиолане (современном Милане). Дата рождения Констанции неизвестна, но ко времени свадьбы ей было не более 18 лет. Возраст Лициния приближался к 50 годам.
Свадьба состоялась после победы Константина над Максенцием
Вероятно, торжество проходило в феврале 313 года. За несколько месяцев до того, 28 октября 312 г., произошла знаменитая победа войск Константина над преторианцами узурпатора Максенция у Мульвийского моста, накануне которой св. Константин увидел на небе знамение Креста и надпись «Сим победиши» (In hoc signo vinces, Εν Τούτῳ Νίκα). Константин торжественно вступил в Рим. Бракосочетание скрепляло политический союз соправителей. Решение о свадьбе было принято еще до победы, вероятно в 311-312 гг. В Милан Константин прибыл из Рима и оставался в городе примерно до апреля.
На свадьбу мог быть приглашен главный гонитель христиан
По одной из версий историков, на свадьбу могли пригласить Диоклетиана. Ушедший на покой император в то время болел, до смерти ему оставалось меньше года, и покидать свое уединение в Далмации он не стал. В противном случае возник бы исторический курьез: главный преследователь христиан, присвоивший себе имя Юпитера, присутствовал бы при утверждении гонимой им веры. Версия о приглашении Диоклетиана строится на том, что в 313 году у него испортились отношения с Константином и Лицинием. По сообщению, Аврелия Виктора бывший правитель даже был отравлен. Отказ приехать мог быть воспринят как проявление нелояльности новой власти и привел к неприязни.
Миланский эдикт был обнародован не сразу
Когда именно был подписан Миланский эдикт и был ли он подписан вообще или между соправителями была достигнута устная договоренность, не известно. Для историков опорной является дата 13 (26 по новому стилю) июня 313 года. Этот день указан Лактанцием: в июньские иды, по римскому календарю, Лициний отдал приказ президу Никомедии (ныне Измит, город в Турции) обнародовать постановление о новом положении христиан в империи.
Поясняет классик русской церковной истории Василий Болотов: «Императорские эдикты сообщались не особенно быстро. Они рассылались (предъявлялись — perfulgere) сначала префектам, которые отсылали их низшим начальникам. Префекты сопровождали эти рескрипты своими комментариями. Этих уяснений в конце получалось достаточное количество. Каждый действовал в пределах своей власти. Можно думать, что первый эдикт Галерия вызвал такое массовое движение в пользу христианства, что правительство сочло нужным обставить этот переход некоторыми условиями, чтобы воспрепятствовать распространению христианства.
Текст Миланского эдикта не сохранился
Как говорилось выше, письмо Лициния никомедийскому президу приводит Лактанций, но в Кодексе законов Феодосия (Codex Theodosianus 438 г.) текст эдикта отсутствует. О существовании эдикта упоминает и кратко пересказывает его Евсевий в «Церковной истории», а также приводит его греческий перевод в Х книге своего труда.
Миланский эдикт был не первым законом в пользу христиан
В 311 году в Никомедии уже был выпущен эдикт о терпимости к христианам. Миланский эдикт расширил положения другого указа о веротерпимости, который был издан в Никомедии 30 апреля 311 года Галерием, в прошлом самым жестоким гонителем христиан. Никомедийский эдикт в отличие от Миланского не распространялся на всю территорию империи (соправитель Галерия Максимин Даза не принял эдикт), не приравнивал христианство к язычеству, лишь оказывал христианам «снисходительнейшую милость», не возвращал христианам конфискованную собственность, позволял собираться вместе на молитву, не опасаясь преследований и предписывал молиться о процветании Империи.
В конце Девятой книги «Церковной истории» Евсевий Кесарийский приводит текст и другого закона, предоставлявшего христианам свободу исповедовать свою веру, рескрипта Максимина 312 г. Русский церковный историк Василий Болотов видит в нем либо рисовку тирана своим благородством, либо реакцию на ничтожность результатов гонения против христиан, устроенного самим Максимином.
После Эдикта Церкви были предоставлены привилегии
Согласно Эдикту, христианам возвращалась конфискованная во время гонений собственность, также были предусмотрены выплаты компенсаций пострадавшим. После Миланского эдикта св. императором Константином были приняты и другие акты, упрочившие материальное положение Церкви. Клирики были освобождены от муниципальных повинностей, а Церковь в целом от налога на недвижимое имущество (кроме земельных наделов). Церковь смогла давать вольную рабам при согласии их хозяев, христианские храмы получили право предоставлять убежище, что раньше было привилегией языческих святилищ. Сбор с определенной части земли каждого города передавался местным церквям, т.е. они получили прямое регулярное финансирование от государства.
Во время провозглашения Миланского эдикта папой был африканец
Миланский эдикт был провозглашен при папе римском Мильтиаде (Мелхиаде), который был родом из Северной Африки и, возможно, был темнокожим. Его епископство началось в 311 году, т.е. еще до победы св. Константина. В том же 313 году резиденция римских епископов была обустроена в Латеране, бывшем поместье семьи Латеранов, подаренном Церкви св. Константином. Следующим папой стал святитель Сильвестр, при нем христианство стало утверждаться в Риме, были построены великолепные базилики, а Церковь стала быстро превращаться в серьезную силу в государстве.
Невеста стала защитницей ариан
Как сложились судьбы главный действующих лиц той миланской свадьбы? Меньше, чем через год вспыхнула война между св. Константином и Лицинием. К 324 году последний он был окончательно разбит и укрылся вместе с женой Констанцией и 9-летним сыном в Никомедии. Констанция попросила у брата милости для мужа - жить в ссылке в Фессалонике. Св. Константин уступил ее просьбам, но через год Лициний был задушен, будучи обвинен в подстрекательстве гарнизона к бунту. Констанция стала духовной дочерью епископа Никомедийского Евсевия, одного из ревностных ариан, и сама стала их покровительницей при дворе и поддерживала их во время Первого Вселенского собора.
В истории Христианской Церкви существует немного событий, которые можно было бы сопоставить с тем, что произошло 1700 лет тому назад, когда императоры Константин и Лициний подписали эдикт, вошедший в историю под именем Миланского эдикта. Для христиан, живших в последующие столетия, да и для современных христиан, этот эдикт стал четкой границей, разделившей две эпохи. Можно сказать, что после 313 года изменился и облик Христианской Церкви, и облик всей Римской империи, так что плодами Миланского эдикта мы питаемся и по сей день. Эдикт оказал немалое влияние на формирование европейской цивилизации, на формирование христианской цивилизации в целом. Но в этом докладе хочется обратить внимание на ту роль, которую Миланский эдикт сыграл в истории Церкви, на те изменения в церковной жизни, которые стали следствием его принятия.
Когда современный христианин слышит о Миланском эдикте, он в первую очередь вспоминает о прекращении гонений на христиан. Действительно, в течение первых трех веков своего существования Церковь практически пребывала вне закона и все последователи Христа являлись потенциальными мучениками. Насильственную смерть по несправедливому приговору претерпел Сам Божественный Основатель христианства, насильственной смертью завершили свой путь практически все прямые ученики Иисуса Христа. В условиях существования императорского культа христиане были преступниками и по отношению к римской власти, и по отношению к римской языческой религии. Преступниками делало их и исполнение одного из главных заветов Иисуса Христа – проповедовать Евангелие всем народам (Мф. 28:18-20). В Римской империи прозелитизм был вне закона, поэтому то, что для христиан являлось Божественной заповедью, для римской администрации было прямым призывом к нарушению закона. В этих обстоятельствах история Церкви первых трех веков становилась историей мучеников.
Начало легализации христианства было положено еще ранее, в 311 году, когда император Галерий, поняв бесперспективность преследования христиан, издал эдикт, в котором говорилось: «Мы постановили, чтобы вновь свободно жили христиане, и пусть устраивают свои собрания, но так, чтобы никто из них не нарушал порядка». Этот указ фактически отменял преследование за само имя христианина, но не предусматривал разрешения на переход в христианство из других религий. Историки Церкви полагают, что в 312 году императоры издали еще один эдикт, ограничивающий возможность перехода в христианство. Поэтому в полной мере преследования христиан могли прекратиться только после Миланского эдикта 313 года.
Однако Миланский эдикт не просто положил конец гонениям на Церковь. Он провозгласил принцип религиозной свободы. Слова эдикта о свободе выбора веры звучат очень современно: «Мы даровали христианам и всем возможность свободно следовать той религии, какую бы кто не пожелал … мы постановили, что необходимо узаконить то, что полагали необходимым всегда, а именно, что вообще не следует никому отказывать в выборе, если кто-то предал мысли свои богопочитанию христианскому или той религии, какую счел для себя наиболее подходящей; чтобы всевышняя божественность, святости чей мы следовали бы по доброй воле, могла проявлять во всем свое благоговение и милость» (Лактанций. О смертях преследователей, 48:2-3). Эта религиозная свобода открывала законный путь для дела христианской миссии, которая даст значительные плоды уже к концу четвертого столетия.
Симпатии императорской власти к Церкви, выраженные в Миланском эдикте, и усиление миссионерской деятельности привели к массовому обращению в христианство. Переход в новую веру для некоторых был данью моде или был продиктован корыстными соображениями. Нам, пережившим крушение атеистической идеологии и возрождение Церкви в странах бывшего Советского Союза, несложно представить себе картину массового прихода в Церковь, который имел порой формальный характер. Массовые обращения имели также некоторые негативные последствия, проявлявшиеся в частичном разрушении общинной жизни христиан и падении общего нравственного уровня. Но широкое распространение евангельского учения оказалось весьма благотворным для общества в целом, способствовало смягчению общественных нравов и гуманизации общественной жизни. Христианское представление о высоком достоинстве человека повлияло на отмену в 315 году клеймления преступников, официальную отмену крестной казни и принятие запрета на выбрасывание детей, что у римлян являлось обычной практикой. В 325 году были отменены кровавые зрелища – гладиаторские сражения, которые были очень любимы жителями многих регионов империи. Постепенно менялось отношение и к институту рабства.
Миланский эдикт провозглашал свободу религиозного выбора. И у современного его читателя возникает желание соотнести свободу, о которой говорит древний указ, с той свободой религии, о которой говорят современные политики. Однако современное понимание свободы религии граничит с религиозным безразличием, оно не связано ни со стремлением к истине, ни со стремлением обрести Божественное благоволение. Не таков был по своему духу Миланскиий эдикт. В нем не было безразличия. Эдикт издавался в интересах христиан и был знáком расположения ко христианству. В контексте всего эдикта, составленного в пользу христиан, слова о свободе выбора веры подразумевают в первую очередь возможность свободного выбора христианской веры. Можно сказать, что уже в 313 году святой равноапостольный Константин был на пути к христианству. Во всяком случае, уже в 312 году он созерцал видение Креста и с помощью христианского символа одержал победу над превосходящими силами своего противника Максенция. Религиозная свобода провозглашалась, таким образом, в пользу христианства и при этом вполне соответствовала евангельскому учению о любви.
В эпоху, которая началась в 313 году, государство в лице императора начало принимать активное участие в делах Церкви, в том числе ограничивать права христианских еретиков и раскольников. К сожалению, силовые методы, применявшиеся императорами, зачастую противоречили евангельскому духу и Церковь начинали использовать в достижении политических целей. Но то, что невозможно искоренить инакомыслие силой, понимал уже святой Константин, который в итоге проявил снисходительность и к раскольникам донатистам, и к еретикам арианам, вернув их из ссылки. Последующий отход от идеи веротерпимости и борьба с церковными разделениями были продиктованы не только политическими мотивами, но и глубокой убежденностью в истинности Православия и стремлением видеть весь мир в христианском единомыслии. Об этом говорят письма того же святого Константина, обращенные к Арию и Александру Александрийскому до Никейского собора и к Арию, когда тот находился в ссылке после собора. Эти письма пропитаны подлинным духом христианской любви и жаждой христианского единства.
Благожелательное и покровительственное отношение к Церкви, засвидетельствованное в Миланском эдикте, а также симпатия к Церкви со стороны императорской власти впоследствии переросли в то, что христианство стало государственной религией. Церковь стала приобретать целый ряд прав и привилегий, которые, если быть справедливым, порой становились источником соблазна для клириков. Дав Церкви особые права и привилегии, императорская власть не оставляла попыток вмешатества в церковные дела. Но при всей близости Церкви и государства христианская религия, в отличие от древнего римского язычества, не превратилась в функцию государственной власти, сохранив свою автономию. Эта автономия осознавалась уже первым христианским императором, автором Миланского эдикта. Когда донатисты обратились к императору с просьбой выступить судьей при рассмотрении их дела, святой Константин ответил: «Какое безумие требовать суда у человека, который сам ожидает суда Христова! На суд священников следует смотреть как на суд Самого Бога!». Такого же образа мысли придерживался этот император и после Никейского собора, когда писал в «Послании к епископам, не присутствовавшим на соборе»: «Все, что ни делается на святых соборах епископов, должно быть отнесено к воле Божией». И позднее, в конце IV века святитель Амвросий Медиоланский не позволил перейти границы Церкви даже тому императору, при котором христианство стало государственной религией – Феодосию Первому. В ответ на попытку императора вмешаться в церковные дела святитель Амвросий писал: «Что может быть почетнее для императора как не то, что его называют сыном Церкви? Но император в Церкви, а не выше Церкви». В истории взаимоотношений Церкви и православного государства первого тысячелетия не было идеальных периодов, возможно, не была идеальной и сама модель этих взаимоотношений, но именно эта модель, заданная Миланским эдиктом, была воспринята вместе с самим христианством и на Руси.
Миланский эдикт завершил эпоху открытых гонений на христианство. У христиан после этого почти не осталось возможности быть мучениками, быть подражателями смерти Иисуса Христа, пройти путем Христа до несправедливой насильственной смерти. В этой связи в Церкви получило особое развитие аскетическое движение, которое мы называем монашеством. Уже основателем египетского отшельничества преподобным Антонием Великим монашество воспринималось как аналог мученичества, как добровольное мученичество. Святитель Афанасий Великий так пишет в «Житии преподобного Антония»: «Ему /преподобному Антонию/ желательно было стать мучеником. И сам он, казалось, печалился о том, что не сподобился мученичества. /…/ А когда гонение уже прекратилось, /…/ тогда Антоний оставил Александрию и уединился в монастыре своем, где ежедневно был мучеником в совести своей и подвизался в подвигах веры». Таким образом, в определенной мере развитие монашества также можно считать одним из следствий Миланского эдикта.
После 313 года Церковь столкнулась с обстоятельствами, с которыми ей прежде не приходилось иметь дело. Церковь никогда не имела такого покровительства, которое ей стало оказывать государство. Перед Церковью и епископами благоговели императоры, некоторые из которых все еще носили языческий титул верховного жреца. Но теперь за отказ участвовать в императорском культе не казнили, более того, сам император склонял главу перед Христом. В сознании некоторых христиан появился соблазн увидеть в этой необыкновенной перемене наступление Христова царства на земле. В плену этого соблазна оказался и знаменитый первый церковный историк, Евсевий Кесарийский. Средство против этого соблазна родилось в недрах самой Церкви, когда лучшие из христиан побежали из мнимого Небесного царства на земле в пустыню. Самые искренние последователи Христа не смогли реализовать христианский идеал в условиях христианского государства. На фоне внешнего торжества Церкви, строительства больших храмов, на фоне всех привилегий, которые получала Церковь, они служили тихим напоминанием о том, что подлинное христианство созидается внутри человека, в его душе, а успех христианства не определяется внешним расцветом. Монашество стало великим духовным плодом великого свершения 313 года.
Однако нельзя отрицать, что даже те внешние плоды, которые принес Миланский эдикт 313 года, не могут не восхищать взор. Политика покровительства дала импульс развитию всех видов церковного искусства. Тот невиданный расцвет церковной архитектуры, живописи, скульптуры, прикладного искусства, церковной поэзии, музыки, литературы, который стал возможен благодаря эдикту, до сих пор изумляет все цивилизованное человечество.
Ученые могут много спорить о самом Миланском эдикте, о том, где он был издан и кем, о степени его авторитетности в момент его опубликования, но бесспорно то, что он сыграл величайшую роль в истории человечества. Основываясь на уважении к человеку и его свободе, опираясь на представление о высоком достоинстве человека, эдикт прекратил почти трехсотлетний период жестоких гонений, он открыл путь самой широкой христианской миссии, вызвал расцвет христианской материальной и духовной культуры, укрепив в сознании многих людей и в общественном сознании важнейшие христианские идеалы, идеалы любви, добра и справедливости, все то, что лежит в основе современной европейской цивилизации.
См.: Акимов, В. В. История христианской Церкви в доникейский период / В. В. Акимов. Минск: Ковчег, 2012. С. 38-57.
Лактанций, Фирмиан Луций Цецилий. К исповеднику Донату о смертях преследователей / Фирмиан Луций Цецилий Лактанций // Лактанций. О смертях преследователей (De mortibus persecutorum) / Перевод с латинского языка, вступительная статья, комментарии, указатель и библиографический список В. М. Тюленева. СПб.: Алетейя, 1998. С. 212.
Болотов, В. В. Лекции по истории Древней Церкви. Т. 2: История Церкви в период до Константина Великого / В. В. Болотов. М., 1994. С. 162-163.
Лактанций, Фирмиан Луций Цецилий. К исповеднику Донату о смертях преследователей. С. 245-246.
См.: Болотов, В. В. Лекции по истории Древней Церкви. Т. 3: История Церкви в период Вселенских соборов / В. В. Болотов. М., 1994. С. 137.
Болотов, В. В. Лекции по истории Древней Церкви. Т. 2: История Церкви в период до Константина Великого. С. 404.
Евсевий Памфил. Жизнь блаженного василевса Константина / Евсевий Памфил. М., 1998. С. 112. (Книга 3. Глава 20).
См.: Болотов, В. В. Лекции по истории Древней Церкви. Т. 3: История Церкви в период Вселенских соборов. С. 76.
Святитель Афанасий Великий. Творения / святитель Афанасий Великий. М., 1994. Т. 3. С. 217.
См.: Акимов, В. В. Трансформация раннехристианских эсхатологических воззрений в церковно-исторических сочинениях Евсевия Кесарийского / В. В. Акимов // Труды Минской Духовной Академии. № 3. Жировичи, 2005. С. 66-70.
30. Медиоланский эдикт
История римской тетрархии обещала быть похожа на сказку про дружных царей, мирно управляющих каждый своим царством, особенно когда Диоклетиан с Максимианом в 305 году ушли в положенную отставку и, казалось, новый правовой механизм заработает не на одно поколение. Но уже на следующий год эта история стала похожа на известную считалочку про десять негритят, так что к моменту смерти Максимина Дазы в 313 году вполне можно сказать, что «их осталось только двое» - Лициний и Константин. Правда, финал этой истории не сходится со считалкой, потому что победитель не провоцировал ничьи убийства и сам любил жизнь, а не собирался кончать собой, как ему могли бы посоветовать многие языческие философы поздней Античности, если бы он обратился к ним в минуту отчаяния.
Когда Лициний занял дворец в Никомедии, бывший политическим центром Империи во времена Диоклетиана, он тут же огласил письмо о положении христиан, которое Константин вместе с ним составил в городе Медиолане 13 июня (в июньские иды) наместникам каждой провинции, почему оно со временем получило название Медиоланского (Миланского) эдикта. Текст этого письма полностью приводится у Лактанция (О смертях преследователей, 48) и в переводе на греческий у Евсевия Кесарийского (Церковная история, X, 5.2–14). По своему содержанию и историческому значению текст этого письма затмевает Никомедийский эдикт Галерия 311 года.
Во-первых, в этом письме провозглашается легализация всех религий Римской империи, что фактически уже было постановлено в эдикте Галерия, но теперь имеет всеобщеобязательную силу на территории всего государства.
Во-вторых, в этом письме особо подчеркивается свобода именно христианского вероисповедания, что тоже было в эдикте Галерия, но теперь имеет не только общегосударственную силу, но также оговаривается, что христиане могут исповедовать свою веру без всякого беспокойства для себя. Если Галерий в своем эдикте специально оговаривал, что христиане должны пользоваться своей свободой так, чтобы никто из них не нарушал порядка, то Константин и Лициний оговаривают, что христиане могут пользоваться своей свободой так, чтобы не бояться самого государства, иначе говоря, того самого порядка, который они якобы нарушают. Если эдикт Галерия напоминает христианам, что они могут быть в чем-то виноваты перед государством, то эдикт Константина и Лициния, наоборот, как будто бы извиняется перед христианами за ту вину, которую государство несет перед ними.
В-третьих, если эдикт Галерия ставил христианам условия молиться за благополучие республики и императора, что само по себе не нарушает принципов христианской морали, то эдикт Константина и Лициния не ставит таких условий, поскольку они могут быть поняты превратно.
В-четвертых, самый главный пункт этого письма, принципиально отличающий его от эдикта Галерия, состоит в требовании вернуть христианам все земли, помещения и храмы, которые за все годы гонений были отобраны у христиан. При этом специально оговаривается, что сами христиане ничего не должны платить за эту реституцию, что говорит об уровне произвола на местах в те времена.
В заключение письма от наместников требуется максимально распространить его содержание, в частности, вывешивая его повсюду, как это обычно делалось со всеми открытыми императорскими приказами. Есть версия, что Максимин Даза незадолго до смерти подтвердил этот указ на тех немногих территориях на юге Малой Азии, которые оставались в его подчинении.
Возможен вопрос: почему Константин и Лициний решили издать этот эдикт, если на их территориях, особенно у первого, никаких антихристианских преследований не велось? Ответ очень простой: потому что антицерковные указы Диоклетиана 303–304 годов никто не отменял, и те же Максимин, Максенций и Галерий до своего эдикта 311 года на них ориентировались, и поэтому все христиане жили в страхе, что на основании этих указов любой тетрарх в любое время может возобновить или усилить репрессии. Даже христиане под властью Константина понимали, что их безопасность держится на его личном отношении к ним, но он может в любой момент вспомнить об указах 303–304 годов.
Таким образом, Медиоланский эдикт, изданный Константином и Лицинием 13 июня 313 года, окончательно отменял действия репрессивных указов 303–304 годов; не только провозглашал христианство легальной религией на всей территории Римской империи, но также не ставил перед христианами никаких условий, фактически признавал вину государства перед ними и, самое главное, возвращал им все отнятые земли и храмы. Медиоланский эдикт нельзя считать, как это нередко можно встретить в популярной литературе, признанием христианства государственной религией Римской империи. Язычество сохраняло свои позиции, и его культы отправлялись по всей Империи до конца правления Константина, а также и после него. Христианство окончательно будет признано государственной религией только в 381 году, а до этого момента пройдет еще немало серьезных событий, ставящих под вопрос положение Церкви.
Про Медиоланский эдикт даже нельзя сказать, что после него христианство стало доминирующей религией Римской империи, потому что в количественном отношении христиане составляли меньшинство, а среди политической элиты, особенно в Риме, было очень много язычников. В чем же тогда историческое значение Медиоланского эдикта, если не считать столь важные решения об официальном прекращении террора по всей Империи и реституции церковного имущества? Дело в том, что христианство - это наступательная, миссионерская религия и поэтому реальная свобода означает для Церкви не просто возможность собираться в своих храмах, а возможность распространять свое вероучение по всему миру. Христианство в начале IV века было религией меньшинства, но это была религия самого активного , самого организованного и самого воодушевленного меньшинства, прошедшего множество нечеловеческих испытаний и объединенного исключительно общими мировоззренческими основаниями. Поэтому Медиоланский эдикт, не оказывая никакого специального поощрения христианам, а только восстанавливая справедливость по отношению к ним, способствовал резкому количественному и качественному росту влияния Церкви. Пребывание Церкви в катакомбах, конечно, для иных христиан было по-своему романтичным, так что многие из них уже и не представляли себе иного пространства для храмов, кроме как под землей - подальше от света и людей, но такое состояние было противно, противоестественно самим задачам Церкви, и поэтому Медиоланский эдикт открыл двери этих храмов в обе стороны , предоставив возможность христианам открыто выходить навстречу миру, а миру открыто входить в пространство храма.
Диоклетиан был в шоке от эдикта Константин и Лициния, для него он означал крах всей его религиозной политики, и если это действительно так, то тогда прав А.П. Лебедев, утверждающий, что основатель тетрархии с самого начала решил уничтожить Церковь. Как и на Галерия двумя годами раньше, так и на Диоклетиана напала страшная немочь, и если христианские авторы пишут, что он умер в результате мучительной болезни, то языческие говорят, что он покончил собой. В языческой этике поздней Античности умереть от болезни считалось большим позором, чем от самоубийства.
Как написал Лактанций, «от ниспровержения Церкви до ее восстановления прошло десять лет и около четырех месяцев». За эти годы Диоклетиан и его тетрархи Максимиан Геркулий, Галерий, Максенций, Флавий Север, Максимин Даза и сам Лициний в большей или меньшей степени были организаторами и исполнителями массового антихристианского террора, и только Галлия и Британия под властью сначала Констанция, а потом Константина были свободны от этого кошмара. После эдикта Галерия 311 года террор прекратился на территории Восточной Европы и Малой Азии. После победы Константина над Максенцием террор прекратился в Италии, Испании и Африке. Теперь уже, после победы Лициния над Максимином и издания Медиоланского указа, террор прекратился на территории Египта и Леванта, то есть Палестины и Сирии. Надолго ли?
Данный текст является ознакомительным фрагментом.После гонений Диоклетиана и начала царствования Галерия стало понятно, что веру нельзя искоренить казнями, потому что чем больше было мучеников, тем больше становилось у христианства новых приверженцев. К тому же благодаря апологетам постепенно общество перестает рассматривать христиан как атеистов или колдунов. Раннее богословия сделало возможным объяснение христианских истин, что необходимо для принятия его как государственной религии. Уже Галерий в 311 году признает христианство как религию равным всем другим, при Константине же оно получает привилегированный статус.
Константин , сын Констанция Хлора и Елены, родился в городе Нише, в Сербии. Год рождения его точно неизвестен, предполагают 274 или 289 г. Его отец, возможно, был неоплатоником, пожтому религиозность характерна всей семье Константина. В качестве заложника, Константин в девяностых годах 3-го века отправился ко двору Диоклетиана в Никомидию. Здесь он провел более 10-ти лет. При дворе Диоклетиана царила тогда атмосфера почти христианская. Константин держался к христианам очень лояльно. В 306 году он становится кесарем Запада, унаследовав своему отцу, который получил это звание после отречения кесарей Диоклетиана и Максимина. Он освобождает христиан и, возможно, влияет на подписание эдикта 311 года. Тем временем назревает война с Максенцием, его соправителем в Риме, причем войск у Максенция раз в 6 больше. К этому времени относится знаменитое видение Константина: он увидел на фоне солнца знак креста и надпись «Сим побеждай». А перед сражением ему приснился сон, в котором голос повелел ему изобразить на флагах символ Христа (буква Х, по которой посередине проходит буква Р) (описано Евсевием). Битва произошла 28-го октября 312-го г. на Мильвийском мосту. Максенций, введенный в заблуждение Сивиллами (книгами), вопреки всем стратегическим соображениям, вышел из Рима, занял неудобную позицию и был разбит. Это казалось всем невероятным, в Риме был воздвигнут памятник Константину с крестом. Константин и его союзник Ликиний отбыли в Милан, где в 313 году и был составлен эдикт, определявший положение христиан в империи (этот эдикт правда сохранился только в указе Ликиния Никомидиймкому президу 313 года). Есть точка зрения Зеека, что Миланский эдикт – просто письмо Ликиния в Вифинию с отменой всех ограничений действия эдикта 311 года, но это не подтверждается, так как есть свидетельства о том, что некое соглашение касательно христианства было достигнуто в Милане. Основные источники по всей этой истории – Лактанций и Евсевий.
Текст эдикта: «Еще ранее полагая, что свободы в религии стеснять не должно, что, напротив, нужно предоставить права заботиться о Божественных предметах уму и воле каждого, по собственному его произволению, повелели мы и христианам соблюдать веру, согласно избранной ими религии. Но так как в том указе, которым предоставлялось им такое право, были на деле при этом еще поставлены многие различные условия, то, может быть, некоторые из них скоро потом встретили препятствие такому соблюдению. Когда мы прибыли благополучно в Медиолан, я - Константин-Август и Ликиний-Август подвергли обсуждению все, что относилось к общественной пользе и благополучию, то в ряду прочего, что казалось нам для многих людей полезным, в особенности признали мы нужным сделать постановление, направленное к поддержанию страха и благоговения к Божеству, именно, даровать христианам и всем свободу следовать той религии, какой каждый желает, дабы находящееся на небесах Божество /греч. дабы Божество, каково бы оно ни было, и что вообще находится на небе/ могло быть милостиво и благосклонно к нам и ко всем, находящимся под нашею властью. Итак, мы постановили, руководясь здравым и правильнейшим рассуждением, принять такое решение, чтобы вообще никого не лишать свободы следовать и держаться соблюдаемой у христиан веры, и чтобы каждому дана была свобода следовать той религии, какую сам считает наилучшею для себя, дабы верховное Божество, почитаемое нами по свободному убеждению, могло проявлять во всем обычную милость и благоволение к нам.
Посему надлежит твоей чести знать, что нам угодно было, чтобы по устранении всех совершенно ограничений, которые можно было усматривать в данном тебе ранее указе касательно христиан /греческ. «эту волю нашу надлежало изложить письменно, чтобы по устранении всех совершенно ограничений, которые содержались в посланном твоей чести ранее нашем указе касательно христиан и которые казались весьма недобрыми и несообразными с нашею кротостью»/ - чтобы это было устранено, и ныне каждый из желающих содержать религию христиан мог делать это свободно и беспрепятственно, без всякого для себя стеснения и затруднения. Объявить это со всею обстоятельностью твоей попечительности мы признали нужным, дабы ты знал, что мы и христианам даровали права свободного и неограниченного содержания своей религии. Видя же, что им это позволено нами, твоя честь поймет, что и другим также предоставлена, ради спокойствия нашего времени, подобная же полная свобода в соблюдении своей религии, так что каждый имеет право свободно избрать и почитать то, что ему угодно; это нами постановлено с тою целью, чтобы не казалось, что нами нанесен какой либо ущерб какому бы то ни было культу или религии (латинский текст испорчен).
Кроме сего, относительно христиан мы постановляем (латин. - решили постановить), чтобы те места в которых прежде они обычно имели собрания, о которых в предыдущем указе к твоей чести было сделано известное (греч. - иное) постановление, если они окажутся купленными в предыдущее время какими-либо лицами, или у казны, или у кого другого, - эти лица немедленно и без колебаний возвратили бы христианам безденежно и без требования какой либо платы; равно и получившие эти места в дар пусть возможно скорее отдадут (их) христианам. При этом и те, которые купили эти места, и те, которые получили в дар, если будут искать чего либо от нашего благоволения (лат. - пусть просят соответствующего вознаграждения, - греческ. - пусть обратятся к местному эпарху), дабы и они по нашей милости не остались без удовлетворения. Все это должно быть передано, при твоем содействии, обществу христиан немедленно, без всякого отлагательства. И так как известно, что христиане имели во владении не только места, где они обычно собирались, но и другие, составлявшие собственность не отдельных лиц, но общества их (лат. - т. е. церквей; греч. - т. е. христиан) все это в силу закона, который мы выше определили, ты прикажешь отдать христианам, т. е. обществу и собраниям их, без какого либо колебания и прекословия, с соблюдением именно выше указанного правила, чтобы те, которые бесплатно возвратят их, надеялись получить вознаграждение от нашей доброты.
Во всем этом ты обязан оказать выше названному обществу христиан все возможное содействие, чтобы повеление наше выполнено было в самом скором времени, дабы и в этом выразилось попечение нашей милости об общественном спокойствии и тогда, в виду этого, как было выше замечено, Божественное к нам благоволение, в столь великой мере уже испытанное нами, пребудет всегда, содействуя нашим успехам и общему благополучию. А чтобы этот милостивый закон наш мог сделаться всем известным, написанное здесь ты должен в своем публичном объявлении выставить всюду и довести до общего сведения, дабы этот закон нашей милости ни для кого не оставался в неизвестности».
В отличие от Никомидийского закона 311 года Миланский эдикт не ставит цель терпеть христиан как зло, но дает христианам право учить до тех пор, пока они не причиняют ущерб другим религиям. В эдикте оговорен как паритет христианства и других религий, так и имущественное и общественное положение христиан.
Сначала Константин оставался верен принципу равноправия религий, разделявших мир на два непримиримые лагеря. Так, в том же 313-ом г., он разрешил культ рода Флавиева в Африке. С другой стороны, Церковь добивалась тех прав и привилегий, которыми пользовалась языческая религия и представители языческих культов. Так началось новое направление в религиозной политике Константина. Император, некрещеный, естественно, стоял выше всех культов, но явно обнаруживались его симпатии к христианам, поэтому на их храмы, общины, клир распространялись льготы: в 313 освобождение от декурионата, в 315 свобода от казенных повинностей наряду с императорским доменом, в 319 – установлена юрисдикция епископов в гражданских делах, 321 – узаконена формула освобождение рабов в церкви перед епископом, в 323 – запрет на принуждение христиан к участию в языческих празднествах. Теперь христианство явно начинает доминировать. Крестился Константин уже на смертном одре от Евсевия Никомидийского. Это вполне понятно: крещение предполагало полное участие в жизни церкви и ко многому обязывало, на что Константин в то время еще не мог пойти (например, это касается совершенных Константином пяти убийств, которые были делом политической необходимости или произошли по решению суда).
Миланский эдикт сыграл решающую роль в истории христианства. Учение Христа принимается в единственный на тот момент в ойкумене империи, развивается богословие (отцы церкви, борьба с ересями), возрастает возможность миссии. Но при этом возникает особая проблема отношений Церкви и государства. Если сначала они находятся как бы в разных реальностях, то теперь есть Церковь и есть император-христианин, находящийся немного вне Церкви. Шмеман в «Историческом пути православия» указывает, что Константин обращается к Церкви не как ищущий истину, а как император, чью власть санкционировал Бог. Свобода Миланского эдикта, по Шмеману, не христианская свобода, так как при всей благой значимости этого эдикта привела к тому, что христианство приняло идею теократической монархии, а значит, на долгое время свобода личности, самая христианская из идей языческого мира, окажется символом борьбы против Церкви. Это свобода культа и начало религиозного монархизма христианства. Но при этом это конец предыдущей духовной эпохи – эпохи синкретизма, представлений о том, что все религии можно совмещать как восходящие к одному Божеству.
Значение Миланского эдикта для христиан.
В период своего становления молодая религия, христианство, переживала сильные потрясения. В первые десятилетия после распятия Христа его последователи подвергались притеснениям и гонениям не только государственной властью Римской Империи и народа, но и иудеями. Первым документом, прекращающим притеснение христиан, стал Миланский эдикт.
Христианство зародилось среди иудаизма, сам Иисус и его последователи были евреями, апостол Петр называл себя фарисеем. Долгое время учение Христа первосвященниками и фарисеями расценивалось, как «назорейская ересь». Естественно, что и римская общественность воспринимала новую религию, как иудейскую секту и относилась к ней с пренебрежением, но не испытывала негативных чувств. В это время большая часть Великой Римской Империи поклонялась бесчисленному пантеону богов. Но сам государственный аппарат относился терпимо к местным религиозным учениям, не навязывая своего вероисповедания.
Особое отношение римлян к христианству имеет под собой две основные причины. Во-первых, общественность не принимала христианские ценности, требовавшие смирения и умеренности во всем. Римляне же поклонялись богатству и власти, какие-либо ограничения в еде и удовольствиях были признаком невежества и варварства. Пышные убранства домов, разнообразные яства и бесконечные возлияния были привычны для зажиточных жителей. Испытываемые лишения растолковывалось как недовольство богов, продолжение привычного уклада жизни и после смерти обеспечивалось жертвами идолам.
Во-вторых, императоры и политики усматривали в христианском учении угрозу своей власти. Увеличивающееся число последователей Иисуса Христа считалось опасным самому государственному строю. Правители, отвечая на волнения в народе, стали всячески притеснять и ограничивать христиан. Первым императором, обрушившимся на христиан, стал Нейрон. Их обвинили в организации пожара, который погубил половину Рима. Это послужило поводом, со слов Тацита, обрушиться на верующих с обвинением в ненависти к человеческому роду.
Во многом страх язычников перед Верою во Христа таился в непостоянности их богов. Традиционная привередливость и злобливость, приписываемая ветреным божествам и их многочисленному потомству, держала в постоянном страхе народ. Опасение, что проявляемое христианами неуважение, способно нарушить умиротворение великих сил делало римлян нетерпимыми. Особое раздражение вызывало стремление Церкви распространятся и нести Слово Божие, как ей было заповедано, среди других народов. Такое поведение миссионеров стало нести угрозу национальным традициям многочисленных народов, входящих в состав Римской Империи. Все это породило беспрецедентные по своим масштабам гонения христиан.
За первые три века существования религии было замучено и убито множество людей. Императоры издавали эдикты, ограничивающие христиан, запрещающие собрания и совершение обрядов и даже обязывающие законопослушных граждан выдавать, нарушающих закон, властям. Но постепенно убежденность христиан в своей правоте, многочисленное мученичество за веру и моральный облик ее приверженцев переломили недоверие народа. Люди стали задумываться о правдивости учения и все больше прибегали к таинству Крещения. Притеснение Церкви со стороны государства стало необоснованным. Все больше государственных деятелей принимали Крещение и становились ревностными христианами.
Первым шагом к восстановлению справедливости и прекращению надругательств над Церковью и последователями учения Христа был сделан с помощью эдикта Галерия о веротерпимости, который разрешал христианам открыто справлять свои ритуалы и прекращал всякие притеснения. Эдикт был издан в 311
году, за несколько дней до смерти Галерия. Интересно отметить, что большую часть своей жизни Галерий вел активную борьбу с христианством. По мнению некоторых историков, именно он был инициатором преследований Диоклетиана. По одной из версий, свое отношение к Богу правитель восточной части Римской Империи меняет из-за поразившей его тяжелой болезни. А таким послаблением он хотел заслужить благосклонность Бога христиан и молитвы верующих за свое выздоровление. В итоге один из самых ревностных язычников и гонителей проявляет страх перед Господом.
Однако документ Галерия был неполным. Окончательно христиане были оправданы Миланским эдиктом, изданным в 313
году августами Константином и Лицинием. Христиане непросто освобождались от притеснений, но и Церкви возвращались все ее земли и имущество. Если в результате выполнение этого закона терпели убытки частные граждане, их собственность возвращалась Церкви, как ранее отобранная, то государственная казна все возмещала. Было узаконено пожертвования и завещание имущество в пользу Церкви, а в дальнейшем ее служители были освобождены от многих податей и налогов. Сам император Константин всячески покровительствовал христианству, способствовал распространению его учения и принял Крещение в конце своей жизни.
Текст Миланского эдикта не сохранился. Основные положения и смысл документа дошли до нас из послания президу Вифинии. В связи с этим многие историки и даже богословы отрицают вообще его существование. Ослабление же гонений на христианство связывают с эдиктом Галерия. Однако, в исторических документах, которые переводились с римского на греческий через несколько веков существуют ссылки с цитатами на Миланский эдикт.
Несмотря на споры исследователей Церковь признает существование Миланского эдикта и его значения для всего христианства. Благодаря Константину христианство непросто узаконивается, с Миланского эдикта начинается его становление, как государственной Римской Империи, которая впоследствии станет Священной. Церковь под защитой государства становится способной проповедовать учение Христа в больших масштабах. Начинается формирование привычного нам облика государства и мира.