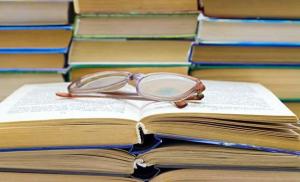Краткая русская грамматика: Грамматика и её предмет. Грамматические категории и способы их выражения в современном русском языке Что не является грамматической категорией
Грамматическая категория – это система противопоставленных друг другу рядов грамматических форм с однородными значениями. В этой системе определяющим является категоризующий признак, напр. обобщённое значение времени, лица, залога и т. п., объединяющее систему значений отдельных времён, лиц, залогов и т. п. и систему соответствующих форм.
Необходимым признаком грам. катгории является единство значения и его выражения в системе грамматических форм как двусторонних языковых единиц. Грам. категории подразделяются на морфологические и синтаксические. Среди морфологических категорий выделяются, напр., категории вида, залога, времени, наклонения, лица, рода, числа, падежа. Количество противопоставленных членов в рамках таких категорий может быть различным: напр., категория рода представлена в рус. языке системой трёх рядов форм, выражающих грамматические значения муж., жен. и ср. рода, а категория. числа - системой двух рядов форм - ед. и мн. ч.
Категория падежа . В русском языке категория падежа представлена 6 падежами – именительным, родительным, дательным, винительным, творительным и предложным. Рассматривая значение каждого отдельного падежа как особой грамматической категории, мы видим, что оно имеет комплексный характер и состоит из ряда более мелких созначений. Например, в качестве одного из таких созначений можно назвать предметность, поскольку категория падежа свойственна именам существительным, обозначающим предметы и явления. Другим созначением может быть названа принадлежность существительного к определённому грамматическому роду, и т. д. Эти созначения профессор Е. И. Шендельс называет семами. Под понятием сема понимается минимальный, далее неделимый элемент грамматического значения. В русском языке категория падежа характеризуется наличием следующих сем: предметности, рода, числа, одушевлённости/неодушевлённости.
Категория числа . Как в английском, так и в русском языке существует грамматическая категория числа. Эта категория выражает количественные отношения, существующие в реальной действительности, отражённые в сознании носителей данного языка и имеющие морфологическое выражение в соответствующих формах языка.
Категория рода. В русском языке категория грамматического рода имеет широкое распространение. Каждое существительное, будь то одушевлённое или неодушевлённое, в составе своих сем, определяющих его грамматическую сущность, обязательно имеет сему рода – мужского, женского или среднего. Категория рода у существительных русского языка носит формальный характер, кроме существительных, обозначающих людей и животных.
Категория грамматического рода – мужской, женский, средний – была некогда присуща существительным древнеанглийского периода. Однако историческое развитие морфологической структуры английского языка привело к тому, что категория грамматического рода, лишённая морфологических средств выражения, перестала существовать. Но при этом, как следствие древнеанглийской системы языка, в современном английском языке корабли, яхты и другие суда относятся к женскому роду. Более того, в разговорном английском языке, неофициальном стиле животные тоже приобретают категорию рода. Несовпадения в грамматическом роде ведёт к необходимости переводческих трансформаций.
Категория определённости – неопределённости . Содержание категории определённости – неопределённости указывает на то, мыслится ли обозначаемый существительным предмет как относящийся к данному классу предметов(неопределённый артикль), или же как предмет известный, выделяемый из класса однородных с ним предметов(определённый артикль).
В противоположность английскому, в русском языке категория определённости – неопределённости не имеет морфологического выражения и выражается лексически. Для выражения определённости используются: частица – то, указательные местоимения этот, эта, это, эти или тот, та, те, то. По своей функции они соответствуют определённому артиклю. Для выражения неопределённости используются местоимения какой-то, какая-то, какие-то, какое-то; числительное один. При переводе на английский язык они заменяются неопределённым артиклем a или an. Но нужно иметь в виду, что замены такого рода не являются регулярными, а зависят от контекста.
Категория степени качества . Основным средством выражения категории степени качества являются имена прилагательные. По своим типологическим признакам прилагательные в обоих языках значительно отличаются друг от друга. По своему составу прилагательные в русском языке делятся на 3 разряда:
1) прилагательные качественные, обозначающие признак предмета непосредственно: большой – маленький, толстый – тонкий, холодный – тёплый, и т. п.;
2) прилагательные относительные, обозначающие признак предмета через отношение его к другому предмету или действию. Относительные прилагательные в русском языке являются производными от основ имён существительных: камень – каменный, правда – правдивый, зима – зимний;
3) прилагательные притяжательные, обозначающие принадлежность предмета лицу или животному: отцовский, сестрин, и т. д.
Категория вида и времени. Эти две грамматические категории в разных языках имеют далеко не одинаковое развитие и самый разнообразный морфологический состав. Категория вида обычно определяется как такая лексико-грамматическая категория, которая передаёт характеристику протекания действия или процесса, обозначенного глаголом, - повторяемость, длительность, многократность, мгновенность действия, или результативность, завершённость, или предельность, т. е. отношение действия к его внутреннему пределу. Перечисленные характеристики протекания действия или процесса получают в различных языках самое разнообразное морфологическое или морфолого-синтаксическое выражение. Таким образом, при переводе переводчик прибегает к разного рода грамматическим трансформациям. В русском языке, выделяются два вида: несовершенный (писать, говорить, и т. п.), выражающий действие в его течении и совершенный (сделать, написать, и т. п.), выражающий действие, ограниченное пределом совершения в какой-либо момент его осуществления или же сообщающее результат данного действия или процесса. Система видов в русском языке, по мнению В. Д. Аракина, имеет свой отличительный признак – наличие соотносительных пар глаголов, которые образуют соотносительные ряды форм, пронизывающие всю систему глагольных форм при тождестве их лексического значения.
Литературный язык представляет собой систему, в которой тесно взаимосвязаны звуковой, лексический и грамматический строй.
Звуковой строй языка образуют звуки и их обобщенные типы, служащие для различения звуковых видов словоформ (фонемы), а также акцентные средства (ударение) и интонация.
Лексический строй языка образуют слова и устойчивые идиоматические выражения (фразеологизмы), группирующиеся на основе своих лексических значений в многоступенчатые взаимосвязанные множества и подмножества.
Грамматический строй языка образуют абстрактные единицы (формы, конструкции), группирующиеся во взаимосвязанные классы и подклассы и отражающие законы и правила образования и изменения слов, соединения слов в словосочетания и построения предложений.
Звуковая сторона языка - это его материя; без нее нет ни слов, ни словосочетаний, ни предложений. Однако звук языка (отдельный, произносимый говорящим, или представленный как обобщение, т.е. как фонема) сам по себе лишен значения: это односторонняя единица, имеющая материальное выражение, но лишенная содержания. Все другие единицы языка - слова (и их составные части - морфемы), словосочетания, предложения - имеют как материальное выражение, так и внутренний смысл - значение.
Грамматическая сторона языка представлена в его грамматических категориях, грамматических формах, грамматических значениях (см. § 3 , § 4). Все эти данности предстают в отдельных грамматических единицах, которые соответствующим образом оформлены.
Грамматический строй языка
Грамматический строй языка охватывает собою:
- законы и правила образования слов;
- законы и правила изменения слов;
- законы и правила соединения слов, образования на основе этих соединений элементарных синтаксических единиц - словосочетаний;
- законы и правила построения предложений;
- законы и правила сочетания предложений в более сложные грамматические организации.
Соответственно в грамматике выделяются отдельные области: словообразование, морфология и синтаксис. К словообразованию относятся все явления внутреннего строения слова, его члени-мости на значимые части - словообразующие морфемы, все правила образования слов. К морфологии относятся , во-первых, все явления словоизменения (парадигматика слов) и, во-вторых, вся сфера абстрактных значений слов, т.е. значений, стоящих над их лексическими и словообразовательными значениями и выводимых из их формальной организации. К синтаксису относятся все явления сочетаемости слов, построения предложений и высказываний, их соединения в сложные предложения и в элементарные бессоюзные конструкции. На всех этих уровнях принадлежащие им единицы представляют собой некие организации, характеризующиеся с точки зрения их внешнего и внутреннего (смыслового) строения, их изменений и возможностей их функционирования, употребления в речи.
Таким образом, грамматика языка - это его формальный строй, противопоставленный звуковому (фонетическому) и словесному (лексическому) строю, который представлен такими основными единицами языка, как слово и предложение, выступающими в своих абстрактных формализованных значениях.
Слово является одной из основных грамматических единиц. В нем слиты воедино его звуковая материя, лексическое значение и формальные грамматические характеристики. К грамматическим свойствам слова относятся его значение как части речи (т. е. как единицы, принадлежащей к определенному лексико-грамматическому классу слов), словообразовательная структура, способность к формальным изменениям и все его абстрактные значения, подчиненные общему значению класса (части речи); у имени это такие, например, значения, как род, число, падеж, у глагола - вид, залог, время, наклонение, лицо. Кроме названных свойств слову принадлежит его собственный активный потенциал, проявляющийся, с одной стороны, в возможностях его синтаксической и лексико-семантической сочетаемости, его участия в построении предложений и высказываний, с другой стороны, в его активном отношении к разным видам контекстных окружений. Таким образом, слово является единицей, разными своими сторонами принадлежащей одновременно всем уровням грамматической системы - и словообразованию, и морфологии, и синтаксису.
Предложение как предмет грамматики представляет собой сообщающую единицу, строящуюся по определенному синтаксическому образцу, существующую в языке в разных своих формах и модификациях, функционально (с той или иной коммуникативной целью) нагруженную и интонационно оформленную. Предложению как грамматической единице принадлежат предикативность (максимально абстрагированное грамматическое значение, свойственное любому предложению), категории семантической структуры и компоненты актуального членения - тема и рема (см. ). Предложение, как и слово, вступает в синтаксические отношения с другими грамматическими единицами - предложениями и их аналогами; так образуются разные виды сложных предложений и бессоюзные соединения предложений.
Грамматическая единица и грамматическая форма
Грамматическая единица - это любое грамматически оформленное отдельное языковое образование: морфема, слово, словосочетание, предложение простое или сложное, - представленное либо во всей совокупности своих форм, либо в одной какой-то своей форме. Так, например, имя существительное стол является грамматической единицей, существующей как совокупность всех своих падежных форм единственного и множественного числа; глагол идти является грамматической единицей, существующей как совокупность всех своих спрягаемых форм, а также инфинитива, причастия и деепричастия. В то же время отдельная форма существительного (стол, столом, столами и т. д.) или глагола (иду, шли, шедший и т. д.) также является отдельной грамматической единицей. И в том и в другом случае имеет место грамматическая оформленность, однако в первом случае слово предстает как система форм, а во втором - как отдельная словоформа (см. § 10).
Грамматические единицы объединяются в классы. В соответствии с двойственным характером грамматических единиц двойствен и характер их классов: это или части речи, т.е. классы, объединяющие слова как совокупности форм, или классы форм, объединяющие те или иные словоформы (например, класс инфинитива, класс родительного падежа, класс сравнительной степени и т. д.). Так же двойствен и характер предложения как грамматической единицы: это или предложение во всей системе своих изменений (в этом случае оно представляет какой-то определенный класс, тип предложений, например, глагольные подлежащно-сказуемостные предложения, однокомпонентные предложения), или отдельно взятое предложение (в этом случае оно входит в определенный класс форм предложения, например, предложение в форме синтаксического настоящего времени, в форме побудительного наклонения).
Грамматическая форма - это языковый знак, который сочетает в себе материальную сторону и отвлеченный смысл и представляет собой обобщение материально и семантически близких единиц. Внутренняя, смысловая сторона такого знака является его грамматическим значением . Грамматическое значение неотделимо от его материального выражения: эти две стороны языкового знака не существуют друг без друга. Отношения между ними сложные: за внешней стороной знака может стоять несколько значений и, с другой стороны, одно и то же значение может иметь разное материальное выражение. Так, например, в форме существительного отец заключены значения предметности, мужского рода, единственного числа, именительного падежа, одушевленности, нарицательности и конкретности (последние два значения - лексико-грамматические); в форме шёл заключены значения процесса (действия), несовершенного вида, действительного залога, изъявительного наклонения, прошедшего времени, единственного числа, мужского рода; в форме предложения Поезд идет заключены значения отношения: между субъектом и его предикативным признаком (действием), предикативности (т. е. отнесенности ко времени и, в данном случае, к реальности сообщаемого), настоящего времени, неактуализированности сообщаемого (ср. при актуализации: Идет поезд! ). Таким образом, во всех этих случаях в одной форме заключено несколько грамматических значений. В то же время одно и то же грамматическое значение может принадлежать нескольким разным формам. Так, например, значение множественности, неединичности предметов заключено в формах учителя, листья , с одной стороны, и учительство, листва , с другой (в последнем случае - со словообразовательно выраженным значением нерасчлененного множества); значение уменьшительности и ласкательности заключено в словах с разными морфемами: сынок, сыночек, сынуля; доченька, дочурка, дочечка, дочушка ; значение синтаксического настоящего времени заключено в предложениях: Ночь и Стоит ночь , Рассветает и Наступает рассвет .
Из сказанного ясно, что термин «грамматическая форма» имеет как широкое, так и узкое содержание. В широком смысле форма - это любой языковый знак, выражающий грамматическое значение. В узком смысле под формой понимается одно из регулярных видоизменений грамматической единицы как представителя определенного класса. Таковы, например, формы слов той или иной части речи, составляющие их парадигмы, или формы простого предложения, составляющие парадигму предложения.
Применительно к формам в узком смысле слова можно говорить об их вариативности. Под вариантами одной и той же формы понимаются такие материально различные ее виды, которые либо различаются оттенками значения - например, формы род. п. ед. ч. слов типа чай : чая и чаю (см. § 174) или формы синтаксического желательного наклонения типа Если бы не было войны ! и Только бы не было войны ! (см. § 537), - либо семантически дублируют друг друга, т.е. взаимозаменяются свободно, например: в цеху и в цехе , тракторы и трактора , твóрог и творóг ; Если бы он пришел, я был бы рад - Пришел бы он, я был бы рад - Приди бы он, я был бы рад .
Грамматическое значение по своей природе неоднородно: заключенное в одной и той же материальной оболочке, оно может быть более абстрактным или менее абстрактным. Так, в форме шёл (пел, читал, гулял и под.) наиболее абстрактным является значение процесса: оно присуще всем глаголам и всем его формам; за ним следует значение прошедшего времени: оно присуще всем глаголам в форме прошедшего времени; значение мужского рода является у глагола еще более узким, определенным: оно присуще только форме, сочетающейся с он и противостоящей формам женского и среднего родов. Каждая грамматическая единица имеет грамматическую форму со своим грамматическим значением. Класс грамматических единиц объединяет формы с общими грамматическими значениями. В нашем примере соответственно выделяются классы: глаголы; глаголы в форме прошедшего времени; глаголы в форме прошедшего времени мужского рода.
Классами грамматических форм с их грамматическими значениями образуются грамматические категории.
Грамматическая категория
Грамматическая категория - это система противопоставленных друг другу рядов грамматических форм с однородными значениями. Грамматические категории в своих сложных отношениях друг с другом составляют ядро грамматического строя языка.
Морфологические грамматические категории предстают как категории, принадлежащие наиболее общим грамматическим классам слов - знаменательным частям речи: именам существительным, прилагательным, глаголам, наречиям, числительным, местоимениям. Синтаксическими грамматическими категориями являются, например, категория предикативности, категория членов предложения (главных и распространяющих), категории семантической структуры предложения (см. § 425 «Основные понятия синтаксиса»).
Каждая грамматическая категория - сложная организация, состоящая из противопоставленных друг другу рядов форм. Так, например, внутри категории рода имен существительных выделяются формы мужского, женского и среднего рода; внутри категории предикативности - формы синтаксических наклонений, а внутри реального синтаксического наклонения - формы синтаксических времен; внутри категории семантического субъекта - категории субъекта действия и субъекта состояния.
Противопоставление рядов форм в пределах грамматических категорий осуществляется на основе наличия или отсутствия у противопоставляемых форм одного из формально выраженных значений. Так, мужской и женский род имен существительных вместе противопоставлены среднему роду по признаку неспособности последнего обозначать особей мужского или женского пола и наличия такой способности у первых двух; подлежащее противопоставлено сказуемому-глаголу по признаку отсутствия у первого временного значения и наличия этого значения у второго члена противопоставления.
Грамматические категории находятся в тесном взаимодействии друг с другом и обнаруживают тенденцию к взаимопроникновению. Например, глагольная категория вида тесно связана с категорией времени; категория числа имени существительного тесно связана с категорией числа других частей речи; категория лица связывает глаголы и местоимения; категория падежа связывает имена с глаголами через посредство так называемой атрибутивной формы глагола - причастия. Таким образом, взаимодействие грамматических категорий наблюдается как в сфере одной части речи, так и между разными частями речи.
Отношения грамматических единиц
Грамматические единицы языка находятся в определенных отношениях друг с другом. Эти отношения двойственны: во-первых, это отношения соседствующих единиц, которые выстраиваются в последовательно развертывающийся ряд, в цепочку, т.е. линейные отношения; во-вторых, это отношения единиц, тесно связанных друг с другом в границах данного грамматического класса и представляющих собой системные видоизменения (модификации) какой-то одной единицы, т.е. нелинейные отношения. Линейные отношения называются синтагматическими , нелинейные - парадигматическими . В синтагматические отношения вступают в слове его значимые части - корень и аффиксы, основа и окончание (при-ход-н-ый, у-мой-ся ). Синтагматическими являются отношения между словами и словоформами в составе словосочетания (новая книга, дорога к дому, петь песню ), в союзных соединениях слов (отец и мать, читать и писать ), между членами предложения, между простыми предложениями в составе сложного, в бессоюзных соединениях предложений. При синтагматической связи между сочетающимися единицами возникают разнообразные отношения, но это отношения между разными единицами: между разными частями слова, между разными словами или словоформами, между разными предложениями (исключение составляют все случаи повторов, где в синтагматические отношения вступают формы одного и того же слова). В синтагматические отношения могут вступать несколько единиц: две и более. На основе этих отношений строятся все мотивированные (производные) слова и все виды синтаксических соединений - от минимального сочетания слов до сложного предложения и развернутых текстовых последовательностей.
Парадигматические отношения - это отношения между разными выявлениями в языке одной и той же единицы: между морфемой и морфом (см. § 16), между формами одного и того же слова, между формами одного и того же предложения. В парадигматических отношениях форм слов или синтаксических конструкций выявляются разные грамматические значения одной и той же единицы. Так, например, в падежной парадигме имени существительного выявляются разные значения его форм (абстрактные падежные значения); в спряжении глагола в настоящем и будущем времени выявляются его разные личные и числовые значения, в прошедшем времени - разные родовые и числовые значения, а в парадигме форм наклонения - разные модальные значения (изъявительности, сослагательности, побудительности); в парадигме предложения выявляются его разные объективно-модальные значения (см. § 434).
Как синтагматические, так и парадигматические отношения принадлежат системе языка, организуют ее.
Типы грамматических единиц
В грамматическом строе языка существуют определенные типы (образцы), по которым строятся те или иные грамматические единицы. Это особенно наглядно и непосредственно обнаруживается в сфере словообразования: здесь выделяются словообразовательные типы (см. § 30), по которым строятся слова разных частей речи. Типы различаются по признаку продуктивности/непродуктивности . Это значит, что по одним типам строятся всё новые и новые слова, пополняющие лексический состав языка, а по другим типам такие новые слова не строятся: они представлены в языке лишь уже построенными, имеющимися словами (например, образование отглагольных имен лиц с суффиксами -тель или -ник продуктивно, а с суффиксом -ец - непродуктивно). В морфологии также имеет место продуктивность и непродуктивность грамматических образцов. Например, мужское склонение типа стол, дом продуктивно, так как оно служит образцом для склонения всех вновь появляющихся слов подобной структуры; склонение типа путь непродуктивно: новые слова мужского рода с основой на конечный мягкий согласный по этому образцу не склоняются. В синтаксисе высокопродуктивны, например, так называемые номинативные предложения (Ночь. Тишина ): по этому образцу строится бесчисленное количество предложений разной семантической структуры.
Понятие непродуктивности грамматического образца не равно понятию нерегулярности употребления соответствующих образований: грамматические единицы, построенные по непродуктивным образцам, могут иметь в языке регулярное и достаточно частое употребление, и, напротив, единицы, построенные по продуктивному образцу, могут по тем или иным причинам употребляться редко, нерегулярно и принадлежать какой-либо узкой, специальной языковой сфере.
Звуковое оформление грамматических единиц
Все грамматические единицы существуют в определенном звуковом оформлении: его создают звуки языка (принадлежащие к определенным фонемам), акцентные средства (ударение) и интонация.
Звук сам по себе не является значимой единицей языка, но он участвует в образовании материальной стороны таких единиц. В определенных позициях в слове и в сочетаниях слов звук (или сочетание звуков) может реагировать на соседство морфем и слов и в свою очередь влиять на их материальный облик. Все соответствующие явления относятся к области морфонологии.
Ударение является важным средством в образовании слов и форм слов: оно принадлежит слову и словоформе как одна из его неотъемлемых характеристик. В системе словообразования и словоизменения действуют акцентные закономерности, которыми определяется ударение в словах и словоформах. Ударение участвует в формообразовании, в ряде случаев выступая в качестве единственного средства, различающего разные формы одного слова: рýки и рукú , окнá и óкна ; при помощи ударения во многих случаях различаются разные слова: дóма (нареч.) и домá (им. п. мн. ч. существительного дом).
Интонация является сопроводительным средством, оформляющим каждое предложение и высказывание. В языке существует система типов интонационного оформления, и каждое отдельное предложение подчиняется интонационным законам. Интонация - важнейшее средство выражения коммуникативного задания: она способна четко противопоставлять невопросительные и вопросительные предложения, выражать значения побудительности, желательности, разнообразные виды оценок. Интонация вместе с эмфатическим (усиливающим) ударением (а во многих случаях также и вместе с порядком слов) служит для выражения актуального членения предложения, для противопоставления в нем темы и ремы (см. § 441).
Таким образом, грамматический строй языка неотделим от его звукового строя, взаимодействует с разными его средствами и пользуется этими средствами при построении своих единиц и при реализации их значений.
Взаимосвязь грамматического строя и лексического строя
Грамматический строй языка тесно связан с его лексическим строем. Их взаимодействие осуществляется по разным направлениям.
- Слово как единица языка является одновременно и лексической, и грамматической единицей. Лексической системе слово принадлежит как единица, входящая в лексические множества и подмножества, имеющая свое собственное лексическое значение (или несколько значений), связанная разнообразными семантическими отношениями с другими лексическими единицами и с фразеологическим фондом языка. Грамматической системе слово принадлежит, во-первых, как единица морфологии, относящаяся к тому или иному грамматическому классу или подклассу, обладающая грамматической формой и грамматически ми значениями; во-вторых, как единица синтаксиса, обладающая своим конструктивным потенциалом в области сочетаемости слов и строения предложения.
- Связь между грамматикой и лексикой осуществляется в сфере словообразования, где действуют грамматические законы сочетания частей слова, распределения морфем, а в результате действия этих законов создаются лексические единицы - слова. Эта двойственная природа словообразования дает возможность относить его и к грамматическому строю языка, и к его лексическому строю.
- В мотивированных словах во многих случаях присутствуют грамматические признаки слов мотивирующих, например, сохраняется сильное управление (ср. читать книгу - чтение книги, любить балет - любитель балета ), присутствуют следы видовых значений (ср. читать - чтение и прочитать - прочтение , рассмотреть - рассмотрение и рассматривать - рассматривание ).
- Все слова в морфологии распределяются по частям речи, и эти классы являются грамматическими; однако это одновременно и лексические классы, так как самые общие, абстрактные значения частей речи, такие, как предметность, процессуальность, признаковость, отвлечены от лексических значений слов.
- Внутри частей слова выделяются лексико-грамматические раз ряды слов, в которых обобщены, абстрагированы их лексические характеристики и которым присущи те или иные собственные грамматические признаки. Таковы, например, в системе имен существительных вещественные существительные, лексически объединяемые значением неделимого вещества, а грамматически - собственными характеристиками в сфере значений единичности - множественности. В системе глагольного вида особые лексико-грамматические разряды образуют способы глагольного действия, имеющие свои словообразовательные, лексические и грамматические характеристики.
Лекция 9
Исковое заявление о взыскании налоговой санкции.
После вынесения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем или в иных случаях, когда внесудебный порядок взыскания налоговых санкций не допускается, соответствующий налоговый орган обращается с исковым заявлением в суд о взыскании с этого лица, налоговой санкции, установленной законодательством о налогах и сборах.
До обращения в суд налоговый орган обязан предложить лицу, привлекаемому к ответственности за совершение налогового правонарушения, добровольно уплатить соответствующую сумму налоговой санкции. В случае, если лицо, привлекаемое к ответственности за совершение налогового правонарушения, отказалось добровольно уплатить сумму налоговой санкции или пропустило срок уплаты, указанный в требовании, налоговый орган обращается в суд с исковым заявлением о взыскании с данного лица налоговой санкции, установленной налоговым кодексом, за совершение данного налогового правонарушения.
Исковое заявление о взыскании налоговой санкции с организации или индивидуального предпринимателя подается в арбитражный суд, а с физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, - в суд общей юрисдикции.
К исковому заявлению прилагаются решение налогового органа и другие материалы дела, полученные в процессе налоговой проверки.
В необходимых случаях одновременно с подачей искового заявления налоговый орган может направить в суд ходатайство об обеспечении иска в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством РФ (гл.13 ГПК РФ) и арбитражным процессуальным законодательством РФ (гл. 8 АПК).
1. Понятие грамматической категории. Принципы выделения грамматических категорий в языке.
2. Основные грамматические категории имени.
3. Основные грамматические категории глагола.
4. Морфологические и синтаксические грамматические категории.
1. Грамматическая категория – это система противопоставленных друг другу рядов грамматических форм с однородными значениями. В этой системе определяющим является категоризующий признак, например обобщённое значение времени, лица, залога и т.п., объединяющее систему значений отдельных времён, лиц, залогов и т.п. и систему соответствующих форм.
Необходимым признаком грамматической категории является единство значения и его выражения в системе грамматических форм как двусторонних языковых единиц.
Грамматические категории подразделяются на морфологические и синтаксические. Среди морфологических категорий выделяются, например, категории вида, залога, времени, наклонения, лица, рода, числа, падежа. Количество противопоставленных членов в рамках таких категорий может быть различным: например, категория рода представлена в русском языке системой трёх рядов форм, выражающих грамматические значения муж., жен. и ср. рода, а категория. числа – системой двух рядов форм – ед. и мн. ч.
В структуре грамматических категорий наиболее существенным представляется принцип объединения грамматических классов и единиц, составляющих данную категорию. Основой для такого объединения служит обобщенное значение (например, значение времени), объединяющее – как родовое понятие – значения компонентов данной категории. Системность языка состоит не в простой внешней организации языковых материалов, а в том, что все однородные элементы структуры языка взаимосвязаны и получают свою значимость лишь как противопоставленные части целого.
Семантическая оппозиция как раз является таким отношением, подчиненным указанному принципу. Для грамматики это качество особо важно; так, можно говорить о категории рода или падежа лишь в том случае, если есть хотя бы два противопоставленных рода или падежа в данном языке; если же такого противопоставления нет, а существует лишь одна форма (как для рода в английском или в тюркских языках или для падежа во французском), то данной категории вообще в этом языке нет.
Грамматические значения выявляются в противопоставлениях (например, значение единичности, противопоставленное значению множественности). Грамматические оппозиции (противопоставления) и образуют системы, называемые грамматическими категориями.
2. Русскому существительному присущи словоизменительные категории числа и падежа и классифицирующие категории рода, одушевлённости/неодушевлённости и личности.
Грамматическая категория числа является у имён существительных словоизменительной и строится как противопоставление двух рядов форм – единственного и множественного числа. Присущие древнерусскому языку особые формы двойственного числа в современном русском языке не сохранились, имеются лишь остаточные явления (формы множественного числа названий парных предметов: берега, бока, уши, плечи, колени; формы существительных час, ряд, шаг в сочетаниях типа два часа́ ).
У названий исчисляемых предметов и явлений форма единственного числа обозначает единичность, множественного числа – количество более одного: стол – мн.ч. столы, день – мн.ч. дни , дерево – мн. ч. деревья , гроза – мн.ч. грозы . Существительные с абстрактным, собирательным, вещественным значениями относятся к singularia tantum: толщина, баловство, зверьё, молоко , либо к pluralia tantum: хлопоты, финансы, духи́, консервы.
В тех случаях, когда у слов singularia tantum возможно образование форм множественного числа, такому образованию обязательно сопутствуют те или иные семантические осложнения: ср. «видовое множественное» типа вино – мн.ч. ви́на , красота – красо́ты , «эмфатическое множественное» при обозначении большого количества типа вода – мн.ч. во́ды , снег – снега́, и т.д.
Число существительных выражается также синтаксически – числовой формой согласуемого или координируемого слова или числительным: новая книга – мн. ч. новые книги , Студент читает/читал – мн. ч. Студенты читают/читали . У несклоняемых существительных и существительных pluralia tantum, обозначающих исчисляемые предметы, синтаксический способ выражения числа является единственным: новое пальто , одно пальто – мн. ч. новые пальто, три пальто ; одни ножницы – мн. ч. двое ножниц, одни сутки – мн. ч. четверо/несколько/много суток .
Падеж в русском языке выражает отношение имен существительных к другим словам в словосочетании и предложении. Словоизменительная морфологическая категория падежа строится как противопоставление шести основных рядов форм и пяти дополнительных, различающихся флексиями, причём флексии существительных выражают одновременно падежное значение и значение числа. У несклоняемых существительных падежные значения выражаются только формами согласуемых или координируемых слов (в предложении являющихся определением либо именным сказуемым).
Шесть основных падежей:
· именительный,
· родительный,
· дательный,
· винительный,
· творительный,
· предложный.
В системе шести падежей именительный падеж противопоставлен как прямой падеж остальным пяти – косвенным падежам. Он является исходной формой парадигмы, выступая в наиболее независимых синтаксических позициях; косвенные же падежи выражают, как правило, зависимость существительного от управляющего им слова. Будучи управляемыми формами, косвенные падежи выступают в сочетании с предлогами (предложно-падежные формы) и без них (беспредложные формы): видеть дом и направляться к дому ; управлять машиной и сидеть в машине . Из шести падежей один (именительный) является всегда беспредложным; один употребляется только с предлогами, а потому и называется предложным; остальные четыре падежа (средние в парадигме) выступают как с предлогами, так и без них. Для косвенных падежей существенно также, какой части речи они синтаксически подчиняются; различаются приглагольное и приименное употребление падежных форм.
Категория рода у имён существительных является классифицирующей, или не словоизменительной (каждое существительное относится к определённому грамматическому роду) и строится как противопоставление трёх родов – мужского, женского и среднего. Существительные мужского рода семантически определяются как слова, способные обозначать существо мужского пола, существительные женского рода – как слова, способные обозначать существо женского пола, а существительные среднего рода – как слова, не способные указывать на пол. При этом у одушевлённых существительных мужского и женского рода (названий людей и частично – названий животных) связь с обозначением пола – непосредственная (ср. отец и мать , учитель и учительница , лев и львица ), а у неодушевлённых существительных (частично – также у названий животных) – опосредованная, проявляющаяся как возможность стилистического переосмысления в образе существа соответствующего пола (ср. рябина и дуб в народной песне «Тонкая рябина», а также Дед Мороз , Царевна-лягушка и т. п.). Родовые различия существительных выражены только в единственном числе, поэтому существительные pluralia tantum не принадлежат ни к одному из трёх родов. Особое место занимают так называемые существительные общего рода, способные обозначать лицо как мужского, так и женского пола и соответственно обладать грамматическими признаками мужского и женского рода (сирота, недотрога, плакса ).
Род существительных выражается как морфологически – системой флексий существительного в единственном числе, так и синтаксически – родовой формой согласуемого или координируемого слова (прилагательного или другого слова, склоняющегося как прилагательное, глагола-сказуемого). Поскольку система флексий единственного числа не у всех словоизменительных типов существительных однозначно указывает на определённый род (так, существительные II склонения могут относиться и к женскому, и к мужскому роду: м.р. слуга , ж.р. прислуга ), последовательно однозначным является синтаксическое выражение рода существительных. У так называемых несклоняемых существительных этот способ выражения рода является единственным (ср.р. недавнее интервью , м.р. длиннохвостый кенгуру и т.п.).
Способностью указывать на пол обладают также формы согласуемых и координируемых слов в сочетании с существительными общего рода (круглый (м.р.) сирота и круглая (ж.р.) сирота ), а также с существительными мужского рода – названиями лиц по профессии, должности (врач, инженер, директор ), которые могут при указании на женский пол лица сочетаться (только в форме именительного падежа) с формами женского рода координируемых и (реже) согласуемых слов: Врач пришла, У нас новая врач (разговорно).
3. Вид глагола – категория, которая выражает различия в протекании действия. Эта категория различает глаголы несовершенного вида (отвечают на вопрос «Что делать?»: полетать ) и глаголы совершенного вида (отвечают на вопрос «Что сделать?»: прилететь ).
Переходность глагола характеризуется по сочетаемости с винительным падежом без предлога: читать книгу, смотреть фильм ; непереходность глагола характеризуется несочетаемостью с винительным падежом без предлога: болеть корью .
Особую группу составляют возвратные глаголы, которые обозначены суффиксом -ся : держаться, смеяться .
Залог глагола – это категория, которая выражает отношения между субъектом и объектом действия. Глаголы действительного залога – глаголы, при которых подлежащее называет действующее лицо: папа ест яблоко ; глаголы страдательного залога выступают в пассивной конструкции, когда дополнение становится объектом действия: дверь открылась ключом .
Изъявительное – выражает действие, которое существовало, существует и будет существовать: поехал, смотрит . В этом наклонении глаголы имеют формы времени (настоящего, прошедшего и будущего), лица (1, 2 и 3) и числа.
Условное, или сослагательное, наклонение выражает действие, которое реально не существует, оно является лишь возможным или желаемым: почитал бы . Оно образуется при помощи глагола в прошедшем времени и условной частички бы.
Повелительное наклонение – выражает просьбу, приказ или запрет, не является реальным. Образуется способом прибавления к основе настоящего времени окончания -и : принеси, подай ; окончания -те : возьмите, говорите ; прибавлением частиц пусть, пускай : пусть сходит, пускай уйдет .
Время – категория, которая выражает отношение действия к моменту речи. Выделяется три времени: настоящее, прошедшее и будущее. Время глагола тесно связано с категорией вида: НСВ – продавать – продавал – буду продавать ; СВ – продал – продам .
В предложении глагол может быть простым глагольным сказуемым: Саша встал рано ; сложным глагольным сказуемым: Она захотела спать ; несогласованным определением: Мысль уйти не радовала меня .
В русском языке есть глаголы, которые обозначают действие без деятеля (лица), поэтому они называются безличными. Предложения с такими глаголами тоже называются безличными: В ушах звенит. На улице теплеет. Смеркается.
4. Грамматические категории подразделяются на морфологические и синтаксические. Среди морфологических категорий выделяются, например, грамматические категории вида, залога, времени, наклонения, лица, рода, числа, падежа; последовательным выражением этих категорий характеризуются целые грамматические классы слов (части речи). Количество противопоставленных членов в рамках таких категорий может быть различным: например, грамматическая категория рода представлена в русском языке системой трёх рядов форм, выражающих грамматические значения муж., жен. и ср. рода, а грамматическая категория числа – системой двух рядов форм ед. и мн. ч. Эта характеристика исторически изменчива: ср., например, три формы числа в древнерусском, включая двойственное, и две – в современном русском языке.
В русской морфологии различаются грамматические категории словоизменительные, члены которых могут быть представлены формами одного и того же слова в рамках его парадигмы (например, время, наклонение, лицо глагола, число, падеж, род прилагательных, степени сравнения), и несловоизменительные (классифицирующие, классификационные), члены которых не могут быть представлены формами одного и того же слова (напр., род и одушевлённость/неодушевлённость существительных). Принадлежность некоторых грамматических категорий (например, вида и залога) к словоизменительному или несловоизменительному типу является объектом дискуссий.
Различаются также грамматические категории, синтаксически выявляемые (реляционные), т. е. указывающие прежде всего на сочетаемость форм в составе словосочетания или предложения (напр., род.п.), и несинтаксически выявляемые (референциальные, номинативные), выражающие прежде всего различные смысловые абстракции, отвлечённые от свойств, связей и отношений внеязыковой действительности (например, вид, время); такие грамматические категории, как, например, число или лицо, совмещают признаки обоих этих типов.
Иногда термин «грамматическая категория» применяется к более широким или более узким группировкам по сравнению с грамматической категорией в указанном истолковании – например, с одной стороны, к частям речи («категория существительного», «категория глагола»), а с другой – к отдельным членам категорий («категория муж. рода», «категория мн.ч.» и т.п.).
От грамматической категории в морфологии принято отличать лексико-грамматические разряды слов – такие подклассы внутри определённой части речи, которые обладают общим семантическим признаком, влияющим на способность слов выражать те или иные категориальные морфологические значения. Таковы, например, в русском языке существительные собирательные, конкретные, отвлечённые, вещественные; прилагательные качественные и относительные; глаголы личные и безличные; т.н. способы глагольного действия, и т.п.
Понятие грамматической категории разработано преимущественно на материале морфологических категорий. Менее исследован вопрос о синтаксических категориях; границы применения понятия грамматической категории к синтаксису остаются неясными. Возможно, например, выделение грамматической категории коммуникативной направленности высказывания, строящейся как противопоставление предложений повествовательных, побудительных и вопросительных; грамматической категории активности/ пассивности конструкции предложения; грамматической категории синтаксического времени и синтаксического наклонения, формирующих парадигму предложения, и т.д. Спорным является и вопрос о том, относятся ли к грамматической категории так называемые словообразовательные категории: последним не свойственна противопоставленность и однородность в рамках обобщённых категоризующих признаков.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Что понимается под грамматической категорией? Каковы принципы выделения грамматических категорий в языке?
2. Назовите основные грамматические категории имени.
3. Назовите основные грамматические категории глагола.
4. Какие вы знаете морфологические и синтаксические грамматические категории?
Богатырева И.И.
Конечно, понятие категория является достаточно сложным и абстрактным, но не более сложным и абстрактным, нежели многие математические, физические или биологические понятия, которыми вволю оперируют наши школьные учебники, рассчитанные на старшеклассников обычных средних школ. Представляется, что оно не сложнее для понимания, чем интеграл, иррациональное число, логарифм, энтропия, дисперсия, интерференция, мейоз или митоз и т.п. И чрезвычайно важно, что понятием категория пользуются почти все вузовские учебники и пособия, справочные издания, энциклопедии, с которыми неизбежно сталкивается сегодняшний старшеклассник или студент-первокурсник.
Что же это такое – грамматическая категория? По определению В.В.Лопатина, это «система противопоставленных друг другу рядов грамматических форм с однородными значениями», это некоторое множество однотипных, сходных явлений, имеющих какой-то общий признак. И хотя само понятие категория, безусловно, представляет собой некое обобщение, но оно существует не вообще, абстрактно, а вполне реально и конкретно, выражаясь как общее в своих частных проявлениях.
Так, у каждой части речи в любом языке есть свой собственный набор грамматических (морфологических) категорий, которые её характеризуют, выделяя на фоне других частей речи. У существительных и прилагательных в русском языке есть такие грамматические категории, как род, число и падеж, а в ряде германских и романских языков у прилагательных может не быть категории падежа или числа, но при этом существительным в этих языках присуща особая категория определенности-неопределенности, которая отсутствует у других именных частей речи. У прилагательных во многих индоевропейских языках есть категория степени сравнения, отличающая их от существительных. Но нужно понимать, что и это утверждение применимо далеко не ко всем языкам. Так, в древнегреческом и в санскрите суффиксы, образующие форму степени сравнения, могли иногда добавляться и к основам существительных – в тех случаях, когда в значениях существительных имелся качественный оттенок. Например: др.-гр. βασιλεύς ‘царь’ – βασιλεύτερος ‘в большей степени царь’ (царь в сравнительной степени) – βασιλεύτατος ‘самый царственный царь’ (царь в превосходной степени). Санскр. kavitara ‘в большей степени (лучший) поэт’ – это сравнительная степень от kavi ‘поэт, мудрец’; а gajatama ‘самый лучший слон; слон из слонов (т.е. слон, лучше всех воплощающий в себе самые характерные слоновьи качества)’ – превосходная степень от gaja ‘слон’. Можно смело утверждать, что одним из важных признаков той или иной знаменательной части речи в большинстве языков мира является наличие у неё особого, присущего только ей состава грамматических категорий.
Итак, в каждой категории обобщаются соотносительные грамматические значения, непременно объединенные каким-то общим признаком, но при этом они противопоставлены друг другу по этому признаку и даже (что чрезвычайно важно) являются взаимоисключающими. И здесь нет никакого противоречия и тем более какой-то сверхсложности или надуманности. Возьмем, к примеру, глагольную категорию лица, представленную в русском языке тремя грамматическими значениями, или граммемами. Сходство этих граммем состоит в том, что все они выражают общую идею разграничения участников процесса коммуникации. Но при этом 1-е лицо указывает на то, что говорящий является производителем действия, обозначенного глаголом; 2-е лицо указывает на действие, производимое собеседником, или адресатом; 3-е лицо сообщает, что действие совершается тем, кто непосредственно не участвует в акте коммуникации (т.е. не является ни говорящим, ни собеседником). Таким образом, мы видим, что есть и сходство, и одновременно противопоставленность этих трех граммем друг другу. Что же касается последнего из названных выше свойств – их взаимоисключения – то оно проявляется в том, что конкретная глагольная словоформа может быть формой либо 1-ого лица, либо 2-ого, либо 3-его. Все три граммемы никак не могут быть совмещены и одновременно выражены в пределах одной словоформы. И это касается всех грамматических категорий: именная часть речи может стоять в форме какого-то одного падежа (либо именительного, либо родительного, либо дательного и т.д.), одного числа (или единственного, или множественного) и т.п.
Следует обратить особое внимание на то, что грамматическая категория объединяет два плана – некое внутреннее содержание, о котором только что было сказано, и его внешнее формальное выражение. Это действительно очень важно: у грамматического значения непременно должен быть (и зачастую даже не один) какой-то внешний, т.е. наблюдаемый в устной или письменной речи способ его выражения. Так, у грамматической категории лица в русском языке обычно есть возможность заявить о себе при помощи специальных окончаний в формах настоящего или будущего времени в обоих числах: говорю, говоришь, говорит; скажем, скажете, скажут. А в прошедшем времени для этой цели используются личные местоимения, поскольку непосредственно внутри самого глагола указать на его лицо невозможно: я говорил, ты говорил, он говорил.
В древних индоевропейских языках (санскрите, древнегреческом, латыни и др.) категория лица обычно выражалась внутри глагольной формы не зависимо от времени, наклонения или залога, и по специальному личному окончанию всегда можно было определить лицо и число глагола. Поэтому формы именительного падежа от личных местоимений в этих языках встречаются довольно редко: как правило, это бывает в тех ситуациях, когда на них падает логическое ударение или когда одно лицо противопоставляется другому. Например, как в следующих латинских фразах:
Tempora mutantur et nos mutāmur in illis. – Времена меняются, и мы меняемся [вместе] с ними (здесь есть местоимение nos ‘мы’, хотя на 1-е лицо множ.ч. указывает и окончание -mur в глаголе mutāmur).
Tam ego homo sum, quam tu. – Я такой же человек, как и ты (здесь стоит местоимение ego ‘я’, хотя на 1-е лицо ед.ч. указывает и соответствующая форма от глагола быть – sum).
Однако в подавляющем большинстве случаев местоимения в роли подлежащих оказываются в древних языках просто избыточными, не нужными, и их не встретишь, например, в тексте на латыни, но при переводе таких латинских (или древнеиндийских, древнегреческих) предложений принято добавлять соответствующие русские местоимения:
Cogito, ergo sum. – Я мыслю, следовательно, существую.
Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus. – Когда мы здоровы, то легко даём больным хорошие советы.
Особенно это важно в случаях, когда форма русского глагола не несет в себе информации о грамматическом лице:
Feci, quod potui, faciant meliora potentes. – Я сделал всё, что мог; пусть, кто может, сделает лучше.
Ab altero expectes, alteri quod feceris. – Жди от другого того, что сам ты сделал другому.
По этим примерам видно, для чего нужны местоимения в русских переводах: по русской словоформе сделал нельзя определить, что в первом случае предполагалось 1-е лицо, а во втором – 2-е. В латинских же формах лицо субъекта действия заключено в окончаниях -i (feci ‘я сделал’ и potui ‘я мог’) и -eris (feceris ‘ты сделал’).
Грамматическая категория обладает еще двумя необычайно важными свойствами – регулярностью и обязательностью. Действительно, если мы посмотрим на любую грамматическую категорию в русском языке, то обнаружим, что она регулярно выражается: почти всегда мы должны указать на падеж или род имени, наклонение или время глагола и т.п. Почти, но не всегда. И это «не всегда» не должно нас смущать: надо понимать, что регулярность вовсе не означает вездесущесть. Да, мы не при каждом словоупотреблении указываем на то или иное грамматическое значение: так, в ряде контекстов может быть не ясен род или число неизменяемого имени существительного. В предложении До XIV века кофе произрастал в Эфиопии в диком виде по форме глагола можно понять, что слово кофе – мужского рода и стоит в форме единственного числа. В следующем же высказывании ни род, ни число существительного кофе никак не проявлены: Согласно легенде, в середине XVII века мусульманский пилигрим тайно вывез кофе в Южную Индию.
Для отдельных грамматических категорий в принципе нормальным будет обнаруживать себя только в некоторых, довольно редких ситуациях: если мы, говоря по-русски, хотим понять, одушевленное перед нами существительное или нет, мы можем это сделать только одним способом – поставить его в форму винительного падежа множественного числа. Только в этой падежной форме точно проявится его подлинная сущность: если эта форма совпадет с родительным падежом, то перед нами – одушевленное имя, если с именительным – то неодушевленное. К сожалению, даже винительный падеж единственного числа в ряде случаев нам не поможет: я вижу девочку, существо и я вижу парту, окно ничем не различаются. Мы не понимаем по формам слов, что девочка и существо – одушевленные существительные, а парта и окно – нет (девочку = парту, существо = окно). А соответствующие падежные формы множественного числа (я вижу девочек, существ и я вижу парты, окна) нам точно указывают на данную грамматическую категорию: девочек ≠ парты и существ ≠ окна. Все остальные падежи тем более никак не позволят нам определить одушевленность того или иного русского существительного.
особым образом организованные и выражаемые наборы языковых значений («граммем»), имеющие привилегированный статус в языковой системе; в каждом языке имеются свои грамматические категории, но многие существенные для человеческого опыта значения оказываются в составе грамматических категорий очень большого числа языков (таковы, например, значения количества объектов, длительности действия, времени действия относительно момента речи, субъекта и объекта действия, желательности и др.).
Чтобы иметь возможность считаться грамматической категорией, набор значений должен обладать по крайней мере двумя свойствами, а именно категориальностью и обязательностью. Первое свойство (известное также под названиями взаимоисключительности, парадигматичности, однородности, функциональности и др.) позволяет выделить из всего множества языковых значений такие, которые объединяются в категории; второе выделяет среди языковых категорий те, которые являются для данного языка грамматическими. Категорией может быть только такой набор значений, элементы которого исключают друг друга, т.е. не могут одновременно характеризовать один и тот же объект (это свойство можно сформулировать и по-другому: каждому объекту в определенный момент можно приписать только одно значение из этого набора). Так, свойством категориальности, или взаимоисключительности в нормальном случае обладают значения физического возраста (человек не может быть одновременно стариком и ребенком), пола, размера и многие другие. Напротив, такие значения, как, например, цвет, не являются категориями: один и тот же объект вполне может быть одновременно окрашен в разные цвета.
Далеко не все языковые категории, однако, могут считаться грамматическими. Для этого необходимо, чтобы категория удовлетворяла второму свойству, т.е. свойству обязательности (в современной лингвистике это утверждение получило широкое признание, главным образом после работ Р.Якобсона, но подобные идеи высказывались и раньше). Категория является обязательной (для некоторого класса слов), если всякое слово из этого класса выражает какое-либо значение данной категории. Так, в русском языке обязательной является, например, категория времени глагола: всякая личная форма глагола в тексте выражает одно из значений этой категории (либо прошедшее, либо настоящее, либо будущее время), и не бывает такой личной формы глагола, о которой можно было бы сказать, что она «никакого времени», т.е. не охарактеризована по времени в грамматическом отношении.
Существование в языке обязательных категорий означает, что говорящий, собираясь употребить в речи какое-либо слово, вынужден выразить при этом слове одно из значений некоторой категории (т.е. охарактеризовать данное слово по данной категории). Так, выбирая личную форму глагола, говорящий по-русски обязан охарактеризовать ее по виду, времени, наклонению, залогу, лицу/числу (или, в прошедшем времени, роду) подлежащего, поскольку все это грамматические категории русского глагола. Говорящий обязан указывать соответствующие значения грамматических категорий, даже если это не входит в его собственный коммуникативный замысел, например, он мог и не иметь в виду специально обозначать время действия. Конечно, говорящий может все же избежать указания времени но тогда ему придется употреблять уже не глагол, а, например, существительное, у которого в русском языке нет обязательной категории времени. Ср. пару вида ты пришел ~ твой приход , где грамматическое время выражено только в первом случае; при желании это можно сделать и во втором случае (ср. твой прошлый/будущий приход и т.п.), но существенно, что, если говорящий хочет уклониться от выражения времени при существительном, он свободно может это сделать, не нарушая грамматических требований языка, тогда как в случае глагольной формы сделать это невозможно.
Грамматические категории каждого языка можно уподобить своего рода анкете, предъявляемой к описанию объектов и ситуаций на данном языке: говорящий не может успешно выполнить это описание, не ответив (хочет он того или нет) на вопросы такой «грамматической анкеты». По меткому замечанию Р.Якобсона, «основное различие между языками состоит не в том, чтó может или не может быть выражено, а в том, чтó должно или не должно сообщаться говорящими». Отсюда следует важность той роли, которую играет грамматика в создании так называемой «наивной картины мира», т.е. того способа отражения действительности, который составляет специфику каждого языка (и стоящей за ним культуры), так как именно в системе грамматических категорий прежде всего отражается коллективный опыт носителей данного языка.
В разных языках число грамматических категорий различно; существуют языки с очень развитой «грамматической анкетой», в других языках набор грамматических категорий весьма ограничен (языки, полностью лишенные грамматических значений, все же не засвидетельствованы, хотя их существование, вообще говоря, не противоречит лингвистической теории).
Наряду с двумя указанными выше основными свойствами грамматические категории, как правило, характеризуются и рядом дополнительных свойств. Область применимости грамматической категории (т.е. множества тех слов, для которых категория обязательна) должна быть достаточно велика и иметь естественные границы (как правило, это крупные семантико-грамматические классы слов типа существительных или глаголов или их подклассы типа переходных глаголов, одушевленных существительных и т.п.). С другой стороны, число значений грамматической категории (граммем), как правило, невелико, и они выражаются с помощью небольшого числа регулярных показателей. Эти три дополнительных свойства позволяют, в частности, разграничить грамматическую и так называемую лексическую обязательность (последняя всегда привязана к небольшой группе слов, и соответствующие значения не имеют регулярных показателей). Так, в русском языке выбор значения "ребенок тех же родителей" обязательно сопровождается указанием на пол ребенка (соответственно, брат или сестра ), однако мы не можем говорить о грамматической категории «пол родственника» по причинам, перечисленным выше: обязательное указание на пол в русском языке свойственно лишь небольшой группе существительных (терминов родства), и при этом никаких специальных показателей мужского или женского пола в составе этих слов нет. Лексическая обязательность весьма распространенное явление, но она характеризует отдельные группы лексики данного языка и не носит системного характера.
Значение граммем грамматических категорий весьма сложный объект; сущности, называемые грамматическими значениями (например, "множественное число", "дательный падеж", "прошедшее время" и т.п.), как правило, устроены гораздо сложнее лексических значений. Не следует отождествлять название граммемы с ее значением (как часто вольно или невольно поступают авторы грамматических описаний): за названием типа "множественное число" в действительности стоит некое множество контекстных значений, выражаемых набором формальных показателей, при этом всякий показатель может иметь любое из данных значений, а всякое значение может быть приписано любому из данных показателей. Так, в русском языке число выражается по-разному в зависимости от типа склонения существительного и других факторов (ср. пальц-ы , дом-а , яблок-и , сту-ья и т.п.), а формы множественного числа независимо от того, какой показатель в них присутствует могут выражать не только простое множество объектов, но и класс объектов в целом (страусы вымирают ), различные разновидности или сорта объектов (драгоценные металлы , сыры ), большое количество (пески ), неопределенность (нет ли свободных мест ? » "хотя бы одного места") и т.д. Такая ситуация типична для большинства граммем, которые, таким образом, в общем случае являются лишь своего рода ярлыками, обозначающими достаточно сложное соответствие между формальными и содержательными элементами языка.
В число контекстных значений граммем может входить апелляция как к свойствам окружающего мира, так и к синтаксическим свойствам других слов. Значения первого типа называются семантическими (или семантически наполненными, номинативными и др.); значения второго типа называются синтаксическими (или реляционными), что отражает их основное свойство служить выражению синтаксических связей между словами в тексте, а не непосредственному описанию действительности (ср., например, граммемы рода у русских существительных типа диван и тахта , отражающие только различие в их согласовательных моделях: больш-ой диван и больш-ая тахта ). Синтаксические значения в той или иной степени присутствуют в составе почти каждой грамматической категории (так, в русском языке к синтаксическим употреблениям числа можно отнести появление единственного числа в конструкциях с числительными типа три дома , двадцать один дом или в дистрибутивных конструкциях типа советники надели на нос очки ). Существуют и такие грамматические категории, у которых синтаксические значения преобладают или даже являются единственными. Такие категории называются синтаксическими ; к важнейшим из них относятся род и падеж существительных, а в ряде случаев также залог и наклонение глаголов. Языки, в которых синтаксические грамматические категории отсутствуют, называются изолирующими (таковы прежде всего аустроазиатские, тайские и сино-тибетские языки Юго-Восточной Азии, языки манде и ква Западной Африки и др.).
Чаще всего граммемы выражаются с помощью морфологических средств аффиксов (среди которых различают префиксы, суффиксы, инфиксы, циркумфиксы и трансфиксы), а также чередований и редупликаций. Морфологическое выражение граммем свойственно агглютинативным и фузионным языкам (в последних существенную роль играет также неаффиксальная морфологическая техника). Наиболее яркими примерами фузионных языков являются санскрит, древнегреческий, литовский, многие языки индейцев Северной Америки и др.; широко распространены языки, обладающие в равной мере чертами агглютинативности и фузионности (таковы, например, многие уральские, монгольские, семитские языки, языки банту и др.). В то же время встречается и неморфологический способ выражения грамматических значений, при котором эти последние передаются самостоятельными словоформами («служебными словами») или синтаксическими конструкциями. Языки с преобладанием неморфологической техники выражения грамматических значений называются аналитическими (таковы, в частности, полинезийские языки).
Если грамматическая категория устроена так, что все ее граммемы способны поочередно присоединяться к основе одного и того же слова, то такая категория называется словоизменительной, а комбинации ее граммем с основой слова грамматическими формами этого слова. Совокупность всех грамматических форм одного слова образует его парадигму, а слово, понимаемое как совокупность всех своих форм, называется лексемой. Типичными примерами словоизменительных категорий являются падеж существительного, время и наклонение глагола и др.: так, в нормальном случае основа каждого существительного сочетается с показателями всех падежей данного языка, основа каждого глагола с показателями всех наклонений и т.п. (несистемные нарушения этого принципа приводят к появлению так называемых дефектных парадигм, ср. отсутствие формы родительного падежа множ. числа у слова треска или формы 1-го лица ед. числа у глагола победить в русском языке).
Не все грамматические категории, однако, образуют парадигмы грамматических форм: возможна и такая ситуация, когда при основе слова может выражаться только одна граммема. Такие грамматические категории противопоставляют не разные формы одного и того же слова, а разные слова (т.е. разные лексемы) и называются словоклассифицирующими. Типичным примером словоклассифицирующей категории является род существительных: например, в русском языке каждое существительное относится к одному из трех родов, но возможность образовывать «родовые парадигмы» (т.е. свободно менять значение рода) у русских существительных отсутствует. Напротив, у русских прилагательных категория рода, как легко видеть, является словоизменительной (ср. парадигмы типа белый ~ белая ~ белое и т.д.).
Основными синтаксическими грамматическими категориями считаются род и падеж (у имени) и залог (у глагола): род связан с морфологическим выражением согласования, а падеж с морфологическим выражением управления. Кроме того, как падеж, так и залог обеспечивают различение семантических и синтаксических аргументов глагола, т.е. такие синтаксические сущности, как подлежащее и дополнения, и такие семантические сущности, как агенс, пациенс, инструмент, место, причина и мн. др. К синтаксическим (согласовательным) категориям относятся также лицо/число и род глагола.
Большая часть грамматических категорий, встречающихся в языках мира, относится к семантическим категориям. Специфическими семантическими категориями существительных являются число и детерминация (или, в «европейском» варианте, определенность/неопределенность). Категории числа, детерминации и падежа тесно взаимодействуют и часто выражаются единым грамматическим показателем (флексией); флективные падежно-числовые парадигмы свойственны и русском языку. Категория числа обычно представлена двумя граммемами (единственного и множественного числа), но в ряде языков встречается еще и двойственное число, исходно связанное, по-видимому, с обозначением парных объектов (таких, как губы , глаза , берега и т.п.); двойственное число было в древнегреческом, санскрите, древнерусском, классическом арабском; оно засвидетельствовано также в современных языках: словенском, корякском, селькупском, хантыйском и др. Еще более редким является специальное грамматическое выражение для совокупности из трех объектов (тройственное число) или небольшого числа объектов (паукальное число): такие граммемы обнаружены, например, в языках Новой Гвинеи.
Система семантических грамматических категорий глагола очень разнообразна и сильно различается в разных языках. С некоторой долей условности глагольные категории могут быть разбиты на три крупные семантические зоны: аспектуальную, темпоральную и модальную. К аспектуальным (или видовым) значениям относятся все те, которые описывают особенности развертывания ситуации во времени (длительность, ограниченность, повторяемость) или выделяют те или иные временные фазы ситуации (например, начальную стадию или результат); в этом смысле справедлива известная характеристика аспекта как «внутреннего времени» глагола. Напротив, грамматическая категория, традиционно называемая в лингвистике «временем», лишь указывает на относительную хронологию данной ситуации, т.е. имеет ли она место раньше, одновременно или позже некоторой другой ситуации («точки отсчета»). Точка отсчета может быть произвольной (и в этом случае перед нами категория относительного времени, или таксиса), но может быть и фиксированной; фиксированная точка отсчета, совпадающая с моментом произнесения высказывания («моментом речи»), дает категорию абсолютного времени с тремя основными граммемами: прошедшего, настоящего и будущего времени. Дополнительное указание на степень отдаленности ситуации от момента речи (указание «временной дистанции») может увеличивать число граммем категории времени; развитые системы обозначения временной дистанции особенно характерны для языков банту (Тропическая Африка). Вид и время часто выражаются в глагольных словоформах совместно (отсюда традиционная грамматическая номенклатура, в которой «временем» могла называться любая видо-временная глагольная форма). Наиболее типичны комбинации длительного вида и прошедшего времени (общепринятое название «имперфект»), а также ограниченного вида и прошедшего времени (общепринятое название «аорист»).
Глагольная система может характеризоваться большим числом аспектуальных граммем: так, к базовому противопоставлению длительного (дуративного, имперфективного) и ограниченного (перфективного, точечного) аспекта часто (как, например, во многих тюркских языках) добавляются по крайней мере хабитуальный (и/или многократный) аспект и результативный аспект (ср. окно открыто , русск. диал. он выпивши ). Различие, аналогичное хабитуальному аспекту, в русском языке может быть выражено лексически, ср. мальчик идет в школу и мальчик ходит в школу . Особой разновидностью результативного аспекта является перфект, весьма широко распространенный в языках мира (так, перфект имеется в английском, испанском, греческом, финском, болгарском, персидском и многих других языках). Напротив, «бедные» аспектуальные системы (типа восточно- или западно-славянских) характеризуются противопоставлением всего двух аспектуальных граммем (называемых совершенным vs. несовершенным видом, перфективом vs. имперфективом, комплетивом vs. инкомплетивом и т.п.), но зато каждая из этих граммем имеет очень широкий спектр контекстных значений. Так, в русском языке граммема несовершенного вида может выражать длительность, многократность, хабитуальность и даже перфект (ср. Максим читал «Войну и мир »); выбор той или иной интерпретации зависит от контекста, лексической семантики глагола и других факторов. В языках с «богатыми» аспектуальными системами (типа тюркских, полинезийских или банту) все эти значения могут различаться морфологически.
Наиболее сложную и разветвленную структуру имеет зона глагольной модальности (дающая грамматическую категорию наклонения). К модальным значениям относят, во-первых, такие, которые обозначают степень реальности ситуации (ирреальные ситуации не имеют места в действительности, но являются возможными, вероятными, желаемыми, обусловленными и т.п.), а во-вторых, такие, которые выражают оценку говорящим описываемой ситуации (например, степень достоверности ситуации, степень желательности ситуации для говорящего и т.п.). Нетрудно видеть, что оценочные и ирреальные значения часто тесно связаны друг с другом: так, желаемые ситуации всегда имеют положительную оценку говорящего, ирреальные ситуации часто обладают меньшей степенью достоверности и т.п. Не случайно поэтому использование, например, условного наклонения для выражения сомнения или неполной достоверности, характерное для многих языков мира.
Особое место среди граммем наклонения занимает императив, сочетающий выражение желания говорящего с выражением побуждения, направленного на адресата. Императив одна из самых распространенных граммем в естественных языках (возможно, это значение является универсальным). У граммем наклонений велика также доля синтаксических употреблений (так, во многих языках сказуемое придаточного предложение должно принимать форму какого-либо из ирреальных наклонений; то же относится к выражению вопросов или отрицаний).
К наклонению примыкает грамматическая категория эвиденциальности, выражающая источник информации об описываемой ситуации. Во многих языках мира такое указание является обязательным: это значит, что говорящий должен сообщить, наблюдал ли он данное событие своими глазами, слышал о нем от кого-то, судит о нем на основании косвенных признаков или логических рассуждений, и т.п.; наиболее сложно устроенные эвиденциальные системы характерны для тибетских языков и ряда языков американских индейцев, несколько более простые эвиденциальные системы имеются в языках балканского ареала (болгарский, албанский, турецкий), а также во многих языках Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.
Есперсен О. Философия грамматики
. М., 1958
Зализняк А.А. Русское именное словоизменение
. М., 1967
Уорф Б.Л. Грамматические категории
. В сб.: Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972
Ревзина О.Г. Общая теория грамматических категорий
. В сб.: Структурно-типологические исследования в области грамматики славянских языков. М., 1973
Бондарко А.В. Теория морфологических категорий
. Л., 1976
Булыгина Т.В. Грамматические и семантические категории и их связи
. В сб.: Аспекты семантических исследований. М., 1980
Якобсон Р.О. Взгляды Боаса на грамматическое значение
. В кн.: Якобсон Р.О. Избранные работы. М., 1985
Апресян Ю.Д. Принципы описания значений граммем
. В сб.: Типология конструкций с предикатными актантами. Л., 1985
Мельчук И.А. Курс общей морфологии
,
т. II, ч. 2. Морфологические значения
. М., 1998